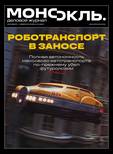Это сделка, о которой спорят до сих пор — обычно с эмоциями и легендами, редко с трезвым расчётом. Мы раскладываем её так, как того требует здравый смысл: что на самом деле произошло, зачем было принято именно такое решение и чем оно обернулось через десять, пятьдесят и сто пятьдесят лет. Без пафоса и ностальгии — только логика, документы и проверяемые выводы.
Что конкретно произошло
• Сделка. Россия уступила США Русскую Америку и прилегающие острова; Русско-американский договор 1867 г. о продаже Россией Аляски США подписан в Вашингтоне 18(30) марта 1867 г. русским посланником Э.А. Стеклем и госсекретарём США У. Х. Сьюардом.
• Цена. 7,2 млн долл. (ст. VI договора; там же формулировка о выплате в золоте).
• Границы уступки. По ст. I — вся территория Русской Америки с прилегающими островами; восточная граница по конвенции 1825 г.; в составе — Алеутская дуга восточнее указанного меридиана.
• Ратификация и ассигнования в США. Сенат одобрил договор 9 апреля 1867 г. (37 — «за», 2 — «против»); Палата представителей утвердила ассигнования 14 июля 1868 г. (114 — «за», 43 — «против»).
• Передача территории. Официальная церемония в Ситке (Ново-Архангельске) — 6 (18) октября 1867 г.: оглашение договора, салют из 42 выстрелов, спуск российского и подъём американского флагов.
• Платёж. В архивной справке зафиксировано поступление 11 362 481 р. 94 к., из них 10 972 238 р. 04 к. израсходованы за границей на закупки для российских железных дорог, 390 243 р. 90 к. получены наличными.
Почему продали: рациональная логика
Продажа Русской Америки была одобрена 16 (28) декабря 1866 года на секретном «особом совещании» при Александре II (присутствовали великий князь Константин — Морское ведомство, канцлер А. М. Горчаков, министр финансов М. Х. Рейтерн, вице-адмирал Н. К. Краббе и посланник в США Э. А. Стекль): единогласно решили уступить владения Соединенным Штатам.
Денежная логика была важной, но не единственной. К середине 1860-х Российско-Американская компания (РАК) показывала слабые балансы: в 1866 г. доход — 706 188 руб. (из них 200 000 — дотация), дивиденд — 1 руб. 45 к. на 150-рублёвую акцию; в 1867-м продано мехов на 578 812 руб. при расходах 848 235 руб. серебром. Демографический и географический контекст только усиливал издержки: русскоязычное население — считанные сотни, снабжение — дорогое и сложное, климат и расстояния — против.
Безопасность тоже подталкивала к договорному «снятию проблемы». После Крымской войны флот оставался слаб, и удаленные колонии считались беззащитными в случае конфликта с морской державой; рядом — британский фактор в Северной Америке и трения из-за промыслов и снабжения.
При этом набирала вес линия на континентальное, а не морское будущее России. А с самими США в середине 1860-х шло редкое по интенсивности сотрудничество.
В этих условиях уступка выглядела способом разрядить потенциальный узел рисков и перераспределить ресурсы на приоритетные направления в Азии и Сибири.
Суммарная картина в исследованиях описана прямой формулой: решение вызвано «сложным комплексом самых разнообразных причин» — от бухгалтерии и логистики до внешнеполитического расчёта — и не состоит ни в «спасении пустой казны», ни в «паническом бегстве» от угроз.
Мифы и факты
МИФ 1. «Аляска была сдана в аренду на 99 лет».
Факт. Это именно продажа (уступка территории): ст. I договора прямо говорит о передаче всей территории с верховными правами США; ст. VI — о выплате 7,2 млн долл. в золоте.
МИФ 2. «Сделка — тайная прихоть, без легитимной процедуры».
Факт. Решение оформлено на особом заседании 16(28) декабря 1866 г. при Александре II (Константин, Горчаков, Рейтерн, Краббе, Стекль) — что было легитимной коллегиальной процедурой.
МИФ 3. «Деньги не дошли: золото утонуло — сделки как бы не было».
Факт. Архивная справка фиксирует поступление 11 362 481 р. 94 к., из них 10 972 238 р. 04 к. израсходованы за границей на железнодорожные закупки. Истории про «затонувший корабль» не отменяют документированный платёж.
МИФ 4. «Всё из-за пустой казны и краха Российско-Американской компании; пушнина иссякла».
Факт. Экономический мотив значим, но не единственный; при этом финансы РАК действительно напряжённые (цифры выше). Тезис об «истощении пушнины» в лоб оспаривается ссылками на природоохранные меры и стабильность промыслов в финальные годы.
Кто выиграл и когда: горизонт 10 / 50 / 150 лет
10 лет (1867–1877)
Россия. Получила 7,2 млн долл.
США. Приобрели огромную территорию. Быстрой ресурсной отдачи в этот период не было.
50 лет (1867–1917)
Россия. Краткосрочный рациональный выигрыш переходит в двойственную картину: удалённая колония потребовала бы непропорциональных расходов; концентрация усилий — на внутренних территориях.
США. Экономическая отдача становится видимой: к концу XIX — началу XX вв. на Аляске разворачиваются добыча золота (с 1896 г.), уголя и богатые рыбные промыслы — покупка начинает «работать» экономически.
150 лет (1867–2017)
Россия. Исторический баланс: в момент сделки — снятие рисков и деньги; в долгую — геостратегическая потеря богатой территории на ключевом тихоокеанском направлении.
США. Стратегический выигрыш XX века: после Второй мировой Аляска становится тихоокеанским военно-стратегическим плацдармом США.
Юридические аспекты
Продажа изменила жизнь людей на месте прежде всего юридически. Договор разделил население на тех, кто в течение трёх лет мог вернуться в Россию, и тех, кто оставался на территории: для оставшихся предусматривалось допущение к правам, преимуществам и защите граждан США, при этом для «нецивилизованных племён» объявлялся отдельный режим — применение тех законов, которые Соединённые Штаты «будут время от времени принимать в отношении коренных племён» (см. текст договора, ст. III–IV). Это был резкий переход от российской административной практики к американской «индейской» политике со всеми её последствиями для общин.
В религиозной и культурной плоскости документ зафиксировал редкую преемственность: православные храмы, «построенные на уступленной Российской правительством территории», остаются владением прихожан Православной Церкви — фактически это легализовало продолжение жизни приходов уже под флагом США (ст. V). Рядом — строго прагматичный пункт об управлении памятью: государственные архивы и документы территории оставляются у агента США, а заверенные копии по требованию выдаются российской стороне (ст. II). Так формировалась «американская» точка доступа к бумагам Русской Америки — важная деталь для исследователей.
Юридическая конструкция сделки добавляла ещё одну тонкость: право немедленного владения считалось завершённым по ратификации, без ожидания церемонии передачи. Поэтому торжество в Ситке — с оглашением текста, салютом в 42 выстрела, спуском российского и подъёмом американского флагов — работало как символический «перезапуск», а не как собственно момент перехода права.
Неприятие в США в 60-е годы XIX века
Американское массовое восприятие сложилось не из статей договора, а из картинок в журналах. Уже весной 1867-го сатирики закрепили язвительные клише — «Глупость Сьюарда», «Seward’s ice-box» — «ледник», или «ледяной сундук Сьюарда». — и часто подавали покупку как попытку отвлечь внимание от провалов в политики. На пике влияния Harper’s Weekly печатался тиражом до 200 тыс. экз., Frank Leslie’s Illustrated — до 164 тыс. экз.; именно они и «озвучили» ранний стереотип Аляски как «холодильника» (ice-box) — арктической пустоши без ясной пользы. Для восприятия новой территории это означало устойчивую медийную рамку, пережившую сам момент сделки.
Пресса подогрела и другой долговечный мотив — подозрения в «спекуляциях» и подкупе вокруг ассигнований. Газетные материалы конца 1868 года пересказывали заседания и допросы в Конгрессе: указывалось, что политик Роберт Дж. Уокер получал деньги за защиту ассигнований и даже советовал российскому посланнику Э. А. Стеклю платить за размещение заметок; отсюда — формула про «спекуляцию в Вашингтоне» и «деньги Аляски». Так рождался медийный след, который в России потом превращался в миф о «не дошедших» средствах — несмотря на зафиксированные в российских бумагах суммы поступлений и их расходование.
Наконец, внезапность самой уступки ударила по Российско-Американской компании как по действующему оператору Русской Америки: последний правитель колоний Д. П. Максутов оценивал убытки РАК в 4 043 882 руб. 59 к., причем возмещение из казны, по его словам, было «незначительным». Эти затраты — неочевидное последствие сделки, проявившееся не на карте, а в балансе компании и её контрагентов.
Альтернатива: а если бы не продали?
Если представить, что Россия оставляет Русскую Америку у себя без изменения условий 1860-х, картина выходит жесткой по исходным данным: русскоязычное население — считанные сотни на всей территории; финансы Российско-Американской компании на изломе, снабжение удаленной колонии — дорогое и трудное.
Без сделки государству пришлось бы и дальше субсидировать оператора и параллельно укреплять военную и транспортную инфраструктуру в океанском театре: наращивать флот, узлы снабжения, гарнизоны. Этого потребовали бы такие факторы, как уязвимость дальних владений в случае войны с морской державой, напряжение с Британской империей в Северной Америке, сложность коммуникаций. Хотя после Гражданской войны США не были готовы к немедленной экспансии, а риск силового конфликта считался скорее потенциальным, чем актуальным — но именно как потенциальный он требовал затрат на «страховку».
Такой курс означал бы поворот к дорогой морской программе на фоне господствовавшего тогда понимания о «континентальном, а не морском» будущем России. Иными словами, удержание колоний требовало бы менять приоритеты всей имперской политики второй половины 1860-х.
Аргумент «все окупилось бы ресурсами» упирается в сроки. Золото на Аляске обнаружили только в 1896 году — почти три десятилетия спустя; нефть и газ — уже в XX веке. Для выхода к ощутимой ренте нужно было минимум тридцать лет удержания при росте населения и капитала на месте, чего не обещала малочисленность русской колонизации и сложность её наращивания.
Вывод. Технически удержать Аляску в 1870-е было возможно (немедленного силового отторжения не ожидалось). Дёшево удерживать — едва ли: требовались бы системные вложения в флот, гарнизоны, снабжение и плотную колонизацию на десятилетний горизонт, с рентой лишь «в долгую».
Исторический баланс
И все же сведение «исторического баланса» не позволяет оценить результат в долгосрочном плане, как положительный.
Деньги приходят и уходят быстро; территории работают всегда — как экономический, так и геополитический актив. Поэтому территории нельзя оценивать только в деньгах — и, следовательно, их нельзя продавать.
Деньги «растворяются». Поступившие от США средства были тут же разнесены по статьям: из 11 362 481 р. 94 к. — 10 972 238 р. 04 к. ушли за границей на закупки для российских железных дорог, 390 243 р. 90 к. получены наличными. Экономический эффект оказался краткосрочным и расходным по природе.
Территория — актив «длинного дыхания». Уступленная площадь — около 1,519 млн км² — уже при описании договора связывалась с золотом, углём и богатыми рыбными промыслами; в новейшее время Аляска стала стратегическим плацдармом США. Это пример многослойной ценности: ресурсы + военное значение.
Геополитическая рента не убывает с «амортизацией» бюджета. США конвертировали приобретение в доминирующее положение на Тихом океане и получили за 150 лет миллиардные доходы от добычи сырья; инфраструктурно это закреплено сетью баз на Аляске (Элмендорф, Айельсон, Форт-Грили и др.).
Утрата носит не только экономический, но и геополитический характер. В оценках подчёркивается «мирный захват США стратегической точки материка» — формула, которая прямо указывает: точка опоры на карте важнее краткосрочной выручки.
Практический вывод. Если расходы на удалённый регион велики, правильная реакция — реформа управления, расселения, снабжения, а не отчуждение суверенитета. Территория — вне денежной оценки: её ценность складывается из ресурсов, коридоров, баз и горизонта действий государства. При сравнении таких факторов, как разовый денежный поток против постоянной территориальной ренты — явное преимущество на стороне постоянной ренты.
Но, наверное, тогда это было практически невозможно оценить Стратегическое прогнозирование сложилось позже, и здесь очень показательна реакция на приобретение нового штата на далеком севере в самих США. Поэтому, никого не судя, будем знать, как там оно было с Аляской на самом деле, без мифов и односторонних оценок. Знать, и исходить из того, что никогда больше российский флаг не должен быть спущен по причине поднятия на этом месте иного флага.
Литература, использованная при подготовке статьи
1. Буйнова М. А. Проблема Продажи Аляски В Американской Прессе. Рязань, 2024. С. 141–144.
2. Калдани Д. И., Кондратьев Д. В. Русская Америка: Был Ли Смысл В Продаже Аляски? : Государственный гуманитарно-технологический университет, 2018. С. 223–225.
3. Македонов Р. А. Продажа Аляски Россией Сша В 1867 Г: Итоги И Последствия. : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. С. 3–4.
4. Овчинникова И. П. Аляска как камень преткновения в отношениях между США и России: анализ причин ее продажи. : Общество с ограниченной ответственностью "Издательство «Концепция», 2016. С. 190–192.
5. Пеньковский Д. Д., Кузнецов В. И. Продажа Россией Аляски Соединенным Штатам Америки // Вестник Национального Института Бизнеса. 2018. № 34. С. 201–210.
6. Русско-американский договор о продаже Аляски // Вестник Университета Имени О.Е. Кутафина. 2019. № 7 (59). С. 192–200.