Максим Диденко — один из самых востребованных театральных режиссеров. Дебютировав в этом качестве семь лет назад, он сумел выработать собственный режиссерский почерк, делающий его постановки непохожими ни на какие другие. Прежде всего, каждый раз Диденко создает новый проект, к которому пишется текст инсценировки и сочиняется оригинальная музыка. Сейчас он едва ли не самый желанный в лучших театрах России режиссер. Среди наиболее ярких и обсуждаемых его постановок, тех, что у всех на слуху, — «Идиот» и «Цирк» в Театре Наций, «Чапаев и пустота» в театре «Практика», иммерсивное шоу «Черный русский» и спектакль «Конармия» в Школе-студии МХАТ. В драматургическую основу его новой работы на сцене Театра на Таганке легла пластинка Владимира Высоцкого «Алиса в Стране чудес». «Эксперт» поговорил с режиссером о его драматургических пристрастиях и режиссерском методе.
— Как вы выбираете литературные произведения для создания их сценической версии? По каким критериям?
— Первый критерий — это человеческая приязнь. Второй — контекст места, ситуации и времени. В случае «Алисы» материал выбирал не я — мне его предложила Ирина Апексимова. Она сказала, что есть идея сделать ко дню рождения Владимира Высоцкого мюзикл по его пластинке «Алиса в Стране чудес». В данном случае мне было интересно место — Таганка. Интересен Льюис Кэрролл как писатель. Все-таки «Алиса» — это каноническое произведение мировой художественной литературы. Для меня Высоцкий — герой советской мифологии вроде Геракла, а Таганка в прошлом — Олимп русского театра. Очень интересное сочетание всех компонентов, поэтому я согласился.
— Почему вы решили именно так интерпретировать «Алису» — ведь зритель, который придет на ваш спектакль, не увидит последовательного переложения содержания пластинки?
— У него очень мало шансов на это. Их практически нет. Решения принимаются по-разному — это же поток жизни. Иногда во сне приснится что-нибудь, посмотришь внутренним взглядом в этот параллельный воображаемый мир — там что-то показывают. И видишь: нужно делать именно так.
— Все вот так спонтанно?
— Мир — иррациональная штука. Мы думаем, что наши поступки рациональны, но это лишь отчасти так. В мире необъяснимого гораздо больше, чем объясненного. Люди пытаются все организовать, упорядочить, но в основном это жалкие попытки.
— Почему вы так часто обращаетесь к советской культуре и используете ее как мифологическую основу для своих спектаклей? С чем это связано?
— Это связано с тем, что я родился в 1980 году. В стране, которая называлась Советский Союз. Я родился в Омске. И даже был октябренком и пионером. Прожил в этой стране одиннадцать лет. Давал пионерскую клятву, пел гимн Советского Союза, был абсолютно советским человеком. Советская эстетика, история — это неотъемлемая часть меня. Мне стало интересно, что это такое — советское время, потому что в моем непосредственном детском восприятии это была жизнь в идеальном мире. Мне захотелось разобраться, из чего тот мир был сделан, как он возник и куда исчез. Я театральными методами пытаюсь исследовать его, потому что даже сейчас существует много версий того, что это такое было — Советский Союз? Хорош он был или плох? Его герои — они были положительными или отрицательными? Чудовищами или сказочными богами? В любом случае это мифологическое пространство, в котором очень важно разобраться не одному мне — всем русским людям, раз мы живем на руинах распавшейся империи. Тем более в Москве, где множество перелистанных исторических страниц и руины сразу нескольких исчезнувших государств, которые соседствуют друг с другом, что и эпично, и трагично, и очень красиво.
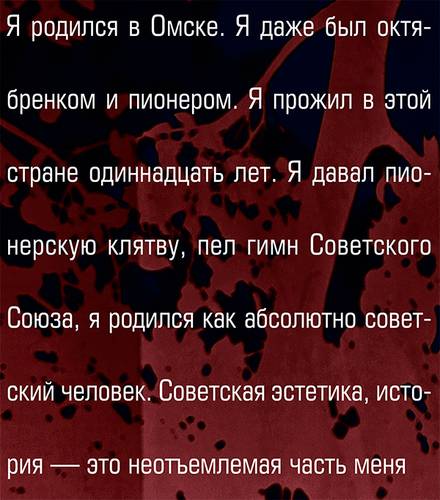
— Расскажите о том, как вы работаете с композитором Иваном Кушниром. Как определяете жанр своих спектаклей? Это мюзиклы или что-то еще?
— Мне всегда казалось, что музыка в театре имеет колоссальное значение, и при этом всегда ужасно бесило, когда в спектакле звучали треки из плейлиста режиссера. Мне такое очень тяжело принять. И всегда интересовало, как они урегулируют авторские права с Майклом Джексоном или Radiohead и так далее. Понятно, что скорее всего никак. Мне важно, чтобы музыка рождалась внутри процесса нашей совместной работы с композитором, потому что театр, который я делаю, во многом опирается именно на музыку. С Иваном мы работаем вместе уже пять лет, и пока что я сотрудничаю в основном с ним. Я отношусь к своим спектаклям как к математическим структурам, в которых важную роль играет композиция, ритм, время. Музыка — это идеальное средство управления течением времени.
— Когда Кушнир показывает вам музыкальный материал, вы сразу с ним соглашаетесь?
— По-разному. Бывает, что я делаю сцену, а он под нее пишет музыку, а иногда наоборот. Иногда я даю ему конкретную задачу — написать лирическую песню на какой-то конкретный текст. При этом задачи могу формулировать по-разному. Когда мы делали «Конармию», я приносил ему кусок текста и говорил: «Хочу, чтобы это стало песней». Он отвечал: «Как?» Я: «Не знаю. Как-нибудь давай!» И как-то ему удавалось это сделать — текст Бабеля очень поэтичный. Бабель создавал его долго. Он много времени потратил на составление слов. Они стоят именно в таком порядке совсем не случайно. Его язык очень близок к поэтическому, поэтому больших проблем не возникло.
— Есть ли у вас какие-то особенные принципы в подборе актеров, особенно учитывая, что вы создаете музыкальные спектакли и они должны петь?
— Я каждый раз делаю кастинг. Выбираю актеров, которые физически могут петь. Иногда бывает так, что актер не способен, а мне необходимо, чтобы он пел, и Иван пишет музыку, а актер как-то там старается попадать в ноты — не всегда удачно. Возникают конфликты на эту тему. Но обязательно находим оптимальное решение. Был показательный случай с актером Ильей Делем, которого мы с Колей Дрейденом пригласили в мюзикл «Ленька Пантелеев» — это была наша сорежиссерская работа. До этого Илья вообще никогда не пел. Он закончил курс Кудряшева, у которого все поют, и на курсе пели все, кроме Ильи. Поскольку у него была главная роль, ему пришлось петь. В результате через год актер был номинирован на премию «Музыкальное сердце России» как лучший исполнитель. Он не взял приз, конечно, но был в одной номинации с профессиональными артистами из таких мюзиклов, как «Бал вампиров» и «Граф Орлов». Поэтому, мне кажется, нет ничего невозможного, и, если человек что-то очень хочет сделать, он сможет достичь успеха — хотя бы на каком-то уровне. В этом смысле мне в артисте важна готовность трудится, пахать. Но только после человеческого контакта. Человеческий контакт важнее, чем что-либо еще.
— Почему так важен человеческий контакт между актером и режиссером в вашей системе взаимоотношений?
— Потому что нам придется прожить вместе два-три месяца. Если этой симпатии не возникнет, то будет тяжеловато всем участникам процесса. Зачем усложнять жизнь себе и другим?
— Как вы работаете с драматургами? Кто формирует техническое задание — какой должна быть инсценировка?
— По-разному бывает. Иногда инсценировкой занимаюсь я сам. Тогда проблем меньше: главное — заставить себя что-то сделать. Основная проблема в этом случае — побороть лень. А так я работал пока только с двумя драматургами: Костей Федоровым и Валерой Печейкиным. К каждому нужен индивидуальный подход. Но бывает, что драматург просто пишет, а я прошу поправить какие-то небольшие вещи. Иногда он работает параллельно со мной, и в процессе репетиций возникает текст. Или что-нибудь напишет, а я это вообще никак не принимаю, и все приходится переделывать. Я, конечно, предпочитаю, чтобы драматург писал что-то совершенное, а я этому просто следовал. Не всегда так получается, иногда требуется что-то корректировать.
— Вы когда-нибудь ставили уже готовую пьесу — от начала и до конца?
— Четыре года назад я ставил «Маленькие трагедии» в Театре-студии Любови Ермолаевой, а Любовь Ермолаева — это моя бабушка. Это был единственный случай в моей практике, когда я работал с уже готовой пьесой, и то их там немного перемешал: разбил «Пир во время чумы» на несколько частей, и он шел маленькими кусочками между всеми остальными вещами. А так — да. А с готовыми пьесами у меня не складывается. Но вот, например, в случае с «Беги, Алиса, беги» Валерий Печейкин написал пьесу, в которую я практически никак не вмешивался и шел строго по тексту. Другое дело, что он написал эту вещь специально для нашего спектакля, приходил на кастинг, видел эскизы декораций и так далее.
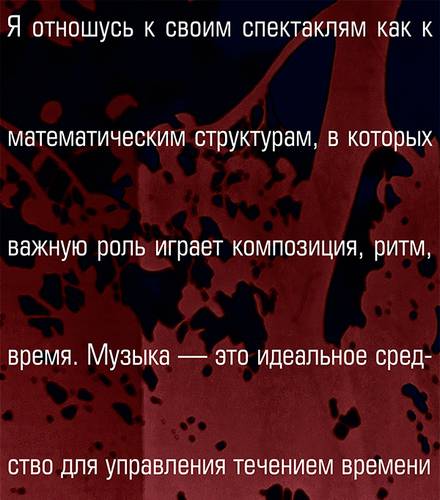
— Зачем нужно прилагать столько усилий и каждый раз рисковать?
— Базовая причина — когда-то давно я не любил, чтобы люди на сцене много разговаривали. Мне казалось, что это очень занудно. Все стоят или сидят и разговаривают — думаю: «Ерунда какая-то». Поэтому фокусировался на другом — не на тексте. А иллюстрирование кем-то написанных диалогов казалось мне занятием неувлекательным. К тексту я отношусь как к карте некой местности, по которой мы со всеми актерами, со всеми художниками отправляемся в путешествие. И о тексте я думаю как о карте этого мира, а сам мир — что-то другое. Он под текстом, справа от него, под ним, но не сам текст. И вот это блуждание под и над текстом мне казалось страшно увлекательным. А пьеса — она всегда очень конкретная и меня, по крайней мере, не вдохновляет. А если ставить современную пьесу, автор которой жив, нужно взаимодействовать с ним, чтобы создавать что-то новое. Поэтому пьесы меня пока вообще не трогают. Но может быть, это — пока. И наверняка скоро пройдет. Или нет.

— Как вы оцениваете ожидания зрителей, которые уже успели полюбить стиль ваших постановок? Насколько вы готовы оправдывать их?
— Я стараюсь не фокусироваться на чьих-либо ожиданиях. Это очень закрепощает — настраивание себя на оправдание чьих-либо ожиданий. Тогда нужно проводить ресерч по ожиданиям, чем, собственно, и занимаются крупные корпорации: изучают спрос, подсознание покупателя, делают фокус-группы и тратят на это огромные бюджеты. Во-первых, я не обладаю такими мощностями, как эти корпорации. У меня нет столько времени, и неинтересно это исследовать в подобном режиме. Я сфокусирован на подключении к реальности — к какому-то течению жизни, это намного увлекательнее, чем ожидания каких-то незнакомых мне людей.
— Как вы выстраиваете отношения с театрами: они вам что-то заказывают или чаще ждут, когда вы к ним придете и что-то поставите?
— Не думаю, что кто-то чего-то ждет. Есть театры, с которыми я сотрудничаю. Мы обсуждаем с ними материал, устанавливаем сроки. Когда утверждаем материал, оговариваем жанр — вместе работаем. Я никогда не прихожу и не говорю: «Я хочу поставить это и только это, с теми-то актерами, и это будет страшно настолько, что всем просто головы оторвет, и будет только так. Так не бывает, по крайней мере в моей жизни. У кого-то, у каких-то радикальных художников, может быть, так и получается, а у меня — нет. И мне важно, чтобы людям театра, в котором спектакль будет идти, хотелось его играть, чтобы он подходил этому театру. Чтобы вещь была органична в среде этих людей. Я выращиваю свои спектакли из среды конкретного театра. Не пытаюсь привнести в него какой-то инородный объект, а выращиваю его как деревце, которое приносит какие-то плоды, все ими наслаждаются, а потом дерево засыхает, и его увозят на помойку или сжигают в печи.
— Какие особенности пространства такого театра, как Таганка, вы учитывали в первую очередь, когда ставили спектакль «Беги, Алиса, беги»?
— Основная сложность этого театра в том, что он имеет великую историю и в какой-то момент перестал быть театром и превратился в музей. Законсервировался, перестал развиваться, потерял связь с настоящим и очень активно сопротивлялся любым попыткам соединить его с сегодняшней реальностью. Там есть группа каких-то активистов (я, кстати, их не встречал ни разу, хотя боялся, что они придут меня громить), которые ведут подрывную деятельность. Но это по слухам.
Ирина принесла с собой в театр свежий воздух, она открыла все окна, проветрила этот театр, сделала ремонт, стала приглашать туда новых людей: новых актеров, новых режиссеров, новых зрителей. По-моему, эта работа удивительно убедительна. Просто фокус в том, что Ирина сама актриса, и она в каких-то приятельских отношениях с труппой. Каждое утро она приходила к нам на разминку, а потом переодевалась в одежду директора театра и решала какие-то административные вопросы. Мне кажется это каким-то правильным дыханием.
При этом труппа состоит из разных поколений артистов, они рассинхронизированы, имеют разные эстетические координаты, и привести их к общему звучанию, скажу честно, было нелегко. Когда, например, работаешь с труппой Кирилла Семеновича Серебренникова, говоришь им какое-то слово — они все понимают его одинаково. А тут разные поколения, и долгое отсутствие художественного руководителя привело труппу в состояние винегрета, но хорошо, что все очень пытливо работали, это позволило привести спектакль к некоторому единству.
— Насколько этот спектакль был важен для вас с точки зрения обретения каких-то профессиональных навыков?
— Это была гигантская работа, и ее надо было сделать в сжатый срок. Для меня была очень важна команда, с которой я работал, и доверие к каждому участнику процесса. Потому что недоверие не позволило бы мне поднять этот объем работы. Я практически не вмешивался в то, что делали художник, видеохудожник, композитор, хореограф и автор. Вносил лишь какие-то мелкие корректировки, но основной моей задачей было синхронизировать все уровни повествования. То, что мне это удалось, я воспринимаю как чудо.
— Какой спектакль вы могли бы выделить в своей карьере — когда поняли, что вам есть что сказать публике?
— Каждый.
— Как стать режиссером?
— Нет общего рецепта, и не будет никогда. Питер Брук стал режиссером в восемнадцать лет. Он начал ставить в студенческом театре, и у него сразу стало хорошо получаться. У каждого свой путь.





