Жюри Букеровской премии 8 июня вручило награду за лучшую книгу, написанную на английском языке за последние пятьдесят лет. Из пяти книг шорт-листа, составленного жюри еще в мае, читатели выбрали роман канадца Майкла Ондатже «Английский пациент» (1991). В шорт-лист вошли еще четыре книги (по одной на десятилетие): «В свободном государстве» (другое название — «В подвешенном состоянии») Видиадхара Найпола (1971), «Лунный тигр» Пенелопы Лайвли (1987), «Волчий зал» Хиллари Мантел (2009) и «Линкольн в бардо» Джорджа Сондерса (2017). Все эти книги уже были лауреатами Букера, но жюри решило подвести что-то вроде итогов своей деятельности, а заодно еще раз напомнить о своей значимости. «Поскольку мы празднуем пятидесятилетие награды, тот факт, что все обладатели премии еще печатаются, свидетельствует о влиянии и наследии Букера», — сказала председатель Фонда Букеровской премии баронесса Хелена Кеннеди.
Опыт с шорт-листом и главной книгой Букера получился интересным. Напомним, что премией награждаются только романы, написанные на английском языке. Выбирая лучшие книги полувека, Букер проделал сложную работу. Мы получили не просто список книг, а срез англосаксонской литературной жизни и что-то вроде контурной карты читательского интереса. И тут мы имеем право если не на решительные выводы, то хотя бы на некоторые обобщения и рефлексию.
Первое, что бросается в глаза, — происхождение авторов-номинантов. Три из пяти книг-призеров написаны писателями, которые родились в экзотических колониях европейских метрополий. Ондатже — полукровка, рожденный на Шри-Ланке, Найпол — индус-брахман из Вест-Индии, Лайвли — англичанка, проведшая детство в Каире. Даже Хиллари Мантел, коренная англичанка из Дербишира, провела девять лет в Африке и на Ближнем Востоке. Все они, еще в ранней юности прильнув к живительному молоку европейской цивилизации, хранили генетическую память иного мира, цветущего под солнцем иной культуры. Это та самая литература окраин, о странном триумфе которой говорят все последние десятилетия. Подборка, представленная Букеровским жюри, намеренно или случайно говорит о некоем культурном мейнстриме. Мы попробуем изучить главный посыл окраин центру. Начнем с «Английского пациента» Онтадже.
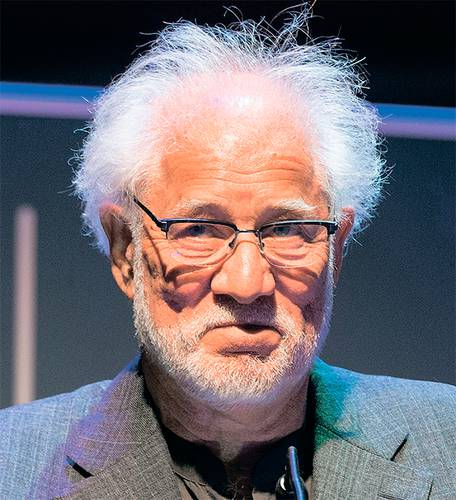
«Английский пациент»
Тысяча девятьсот сорок пятый год, итальянская вилла Сан-Джироламо, откуда союзники только что выбили немецкие войска. Вокруг — разрушенные арки и своды, осыпающиеся фрески и призраки великого Возрождения, блуждающие по библиотеке, в которой метким попаданием то ли немцев, то ли союзников пробита стена. Призраки — это Пико делла Мирандола, Макиавелли и прочие друзья Медичи, убийцы и гуманисты.
В одном из роскошных ренессансных залов, где крыша чудом осталась в целости, лежит человек без имени, без лица и почти без тела. Еще одна жертва войны — обгоревший пилот, чей самолет взорвался в ливийской пустыне. Долгое путешествие в компании с бедуинами, потом череда госпиталей и вот финал пути — разрушенная тосканская вилла. За обгоревшим телом ухаживает двадцатилетняя канадка Хана, добровольно пришедшая на европейскую войну в качестве медсестры.
Майкл Ондатже не заигрывает с читателем. Начало романа не содержит никакого завлекательного сюжета, только стиль, тот самый великий стиль, который пришел в англоязычную литературу после Джойса. Стиль, сотканный из сложного синтаксиса, сновидческого марева метафор, как бы случайно оброненных деталей и монологов, произносимых с интонацией глубочайшей уверенности в том, что красота победит все. «Эхо — это душа голоса, пробуждающаяся в пустоте». Боже, как это красиво! И как бессмысленно!..
Читатель погружается в чтение вместе с Ханой, «зная, что это закончится ощущением, будто она прожила кусок чужой жизни, сотканной из событий, протянувшихся на двадцать лет, а тело ее будет казаться переполненным грустью, смущением и досадой, словно она проснулась с чувством тяжести оттого, что не может вспомнить, что ей приснилось». Печальная красота слов, цветов, красок, изысканных рук Мадонн и их младенцев. Время на вилле — это то ли закат, то ли восход, но точно не день.
Медленное повествование течет вокруг, как водоросли вокруг Офелии. Мы на самом дне англосаксонской цивилизации, среди ее тайн и печали. Только что наступил конец войны. Слова еще не обрели той весомости, которая может спорить с аргументами пулемета. Поэтому они произносятся в случайной последовательности и щедрой растерянной необязательности.
Сначала героев всего лишь двое. Но вскоре к этой паре прибивается еще один канадец, Дэвид Караваджо. Он профессиональный вор, но вор талантливый. Его способности во время войны весьма пригодились английской разведке для вербовки двойных агентов.
Вор-разведчик и юная медсестра гадают о происхождении таинственного пациента, чье существование поддерживается за счет морфия. Он англичанин, считает Хана, а кто же еще? Английский пациент и его странные речи придают всему происходящему призрак смысла и значимости. Хана читает ему Робинзона Крузо, а он рассказывает о ветрах, дующих по Африке, сказки Геродота и историю виллы Сан-Джироламо, маленькой столицы убийственного гуманизма Возрождения: «Здесь бывали Пико, и Лоренцо, и Полициано, и молодой Микеланджело. Они держали в руках новый мир и старый мир. В библиотеке здесь хранились четыре последние книги Цицерона. Они открыли новые виды животных — жирафа, носорога, дронта. Тосканелли составил карты мира, основанные на рассказах купцов. Они сидели здесь, в этой комнате, спорили по ночам, а за ними безмолвно наблюдал Платон, вырезанный из мрамора». Разве может так говорить итальянец или какой-нибудь русский? Только англичанин!
Это чисто-белый мир чисто-белой европейской культуры, растерянной культуры, которая так долго творила себя как единственно возможную и долго видела свое будущее, так же как и прошлое, — только в мраморе. Власть Европы на вилле ощущается везде. Да, ее будущее уже наступило. Им оказались не слава, запечатленная в мраморе, но руины. И пусть! В осыпающихся фресках, в изысканности обломков и в сладостной покорности, с какой ей служат ее адепты с окраины, — во всем властная рука Европы.
Призрак Кима, любимого героя Киплинга, появляется неизбежно. Полукровка, гордо несущий на себе отблеск сияющего бремени белого человека. Он напоминает о времени, когда войны были веселым приключением, когда Восток источал ароматы ванили, а не крови, когда англичане были горды, а туземцы жалки, но так экзотически красивы. То самое время европейского полудня, когда гордый белый человек приносил с собой на окраины сифилис и кастрюли, искренне веря, что несет цивилизацию.
Хана, читающая своему пациенту роман Киплинга, буквально материализует этот образ. На вилле появляется четвертый персонаж — индус Кип, сапер и сикх. Он уже не малыш-полукровка, но герой новой войны, уже совсем не такой веселой, как прежде. Он как будто старше этих наивных детей культуры, он знает, что такое мужество и хладнокровно принятое решение. Но и он, коренной пенджабец, — тоже доброволец Европы.
О, Европа! Очарованные туземцы в пестрых одеждах так хотят прильнуть к твоей роскошной классической груди и золотому сечению арок, чтобы научиться тайне твоей красоты, делающей человека мудрее! У Кипа уже есть опыт этой молчаливой любви: «Прислонившись щекой к грязному илу, молодой сапер-сикх вспоминал лицо царицы Савской и представлял, что прикасается сейчас к ее нежной щеке. Только такое желание могло согреть его в холодной воде. Он снял бы вуаль с ее волос и положил бы руку ей на грудь… По ночам, лежа в гамаке, он протягивает вперед руки, не ожидая обещаний или решений, заключая временный договор с той царицей, чье лицо было изображено на фреске, которое он не может забыть. А она забудет его и никогда не вспомнит о его существовании. Кто он для нее? Какой-то сикх, прилепившийся к веревочной лестнице и мокнущий под дождем, возводя мост, по которому пройдут войска». Любовь к европейским женщинам — в этом есть нечто возвышающее. Особенно если они нарисованы. Жаль, что эта любовь всегда безответна.
Так складывается этот рисунок из пересекающихся линий четырех случайно связанных между собой судеб. Два канадца и один индус, кинувшиеся на защиту мадонн, дорических ордеров и распятий, печальной европейской красоты.
Английский пациент, помнящий латинские названия трав и развеску картин во флорентийских галереях, незаметно становится странным воплощением самой матери-Европы. И пусть это воплощение едва дышит и полностью зависит от умиротворяющей магии морфия, его присутствие придает их существованию некую облагораживающую цель — разгадать его загадку, добиться ответа на все вопросы, которые веками копились на окраинах цивилизаций. Европа, не молчи! Поговори с нами! Но англичанин улыбается и говорит о своем.
Впрочем, англичанин ли он? Канадский вор-разведчик в этом сомневается. Он работал в Ливии и знает методы английской разведки. Тайные переброски агентов, двойная игра… Он помнит, что в первые же годы войны англичане пригласили на помощь специалистов-археологов, исследовавших пустыню все предвоенные десятилетия. Среди них были и англичане, и немцы, и даже венгерский граф Ладислав Алмаши. Они собирали старые карты, слушали местных жителей и искали караванные пути, пролегавшие между оазисами, занесенными песками. Эти прокаленные солнцем профессора к началу войны оказались лучшими знатоками пустыни, чем бедуины. Караваджо работал с ними в Ливии, и до сих пор ему не давала покоя одна история. Некая супружеская пара, муж-разведчик, красавица-жена, а также немецкий агент, которого перевел через пустыню один из тех самых профессоров. Разведчик погиб, немецкий агент был разоблачен, а профессор-проводник исчез. Исчезла и красавица-жена.
Караваджо складывает известные ему факты с бредовыми воспоминаниями английского пациента о возлюбленной, замужней женщине, потерянной им в пустыне, и приходит к выводу: пациент не англичанин, а венгр. Обгорелый полутруп на разрушенной вилле не кто иной, как венгерский граф Ладислав Алмаши, таинственно исчезнувший в самый канун войны. Сам пациент ничего не отрицает и ничего не утверждает. Он только и делает, что вспоминает пустыню Ливии, где мир меняется в сторону вечности и того универсального равноправия, при котором вопрос о нации отпадает сам собой: «Пустыню нельзя затребовать либо завладеть ею — она словно кусок ткани, уносимый ветрами, и его нельзя прижать и удержать камнями, и ему давали сотни названий еще задолго до того, как построили Кентербери, задолго до того, как войны и перемирия прошли по всей Европе и Востоку. Эти караваны, эти странные разобщенные ритуалы и культуры не оставили после себя ничего, даже тлеющего уголька от костра. Каждому из нас, даже тем, у кого в Европе были семьи и дети, хотелось сбросить с себя оболочку своей национальности, словно ненужное обмундирование. Это было святое место. Мы растворялись в нем. Только огонь и песок… Стереть имена! Стереть национальности! Это был дух пустыни, этому она учила нас».
Только культура и Европа обладают силой и властью сохранить эту печальную остроту смертной жизни. Но ни та ни другая не страдают от сочувствия к ближним. Разоблачение английского пациента оставляет его неуязвимым. А пафос Караваджо — вполне бессмысленным. Англичанин это умирает или венгр — не так уже и важно. Идеальный европеец Алмаши давно уже оставил Европу, обменяв ее на пустыню, где нет ничего иного, кроме жизни и смерти.
Но если английскому пациенту это уже неважно, то остальные оказываются в другом положении. Окраина, пришедшая защищать Европу от варваров, находит… Если бы только руины! На месте мечты о красоте обнаруживается совершенно циничная цивилизация, готовая уничтожить всех своих детей. В самом сердце Европы, на фоне прекрасной Италии и флорентийских мадонн канадец Ондатже приходит к выводу, что острое чувство гармонии наделяет европейцев всеми инструментами для визуализации идеала в культуре. Но расплатой за это искусство становится полное отсутствие инструментов для воплощения идеала в реальности. Перед нами виртуальное могущество мифа, вполне уравновешенное практическим бессилием. Голос Ондатже перекликается с голосом знаменитого послевоенного теоретика культуры Теодора Адорно. Так же стоя на европейских руинах, он говорил о полном бессилии культуры перед трагическим материалом истории. Более того, считал Адорно, само подлинное искусство в глубине своей природы не только бесчеловечно, но и смертельно: «Сродство всякой красоты со смертью основано на идее чистой формы… В беспечальной, ничем не омраченной красоте противоборствующие ей силы окончательно утратили бы свою активность, а такое эстетическое примирение смертельно для мира внеэстетических явлений… Прекрасное не только говорит как вагнеровская валькирия с Зигмундом, представшая перед ним как посланник смерти, оно в самом себе, как процесс, уподобляется смерти».

Вот эту великую обманку и обнаруживают окраины, пришедшие к прекрасному центру со своими вопросами и надеждами. У Европы есть воображение, магическое, почти всесильное воображение, обладающее такой властью, что не поверить в его фантомы невозможно. Но кроме этого воображения, у нее нет, в сущности, ничего из того, что так необходимо всем четверым для счастья.
«Я устала от Европы», — говорит однажды Хана.
Европа не слышит. Ей все равно. Но этим четверым не все равно. Когда сапер-сикх услышит по радио сообщение о падении двух ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки, наступает момент, когда пора уже призвать Европу к ответу. И здесь мне придется привести длинную цитату:
«Я вырос в стране, где соблюдают традиции, а позднее был вынужден гораздо чаще сталкиваться с традициями вашей страны и привык к ним. Ваш хрупкий белый остров своими традициями, манерами, книгами, префектами и логикой так или иначе изменил остальной мир. Вы хотите точного соблюдения правил поведения. Я знал: если возьму чашку не теми пальцами, меня прогонят. Если неправильно завяжу галстук, меня проигнорируют. Что дало вам такую силу? Может, корабли? А может, как говорил мой брат, то, что у вас были писаная история и печатные машины?
Сначала вы, а потом американцы обратили нас в свою веру своими миссионерскими правилами. И солдаты-индийцы умирали как герои и могли считаться “полноценными”. Вы ведете войны, словно играете в крикет. Как вам удалось одурачить нас и втянуть в это? Бог… послушайте, что вы сделали…
Мой брат говорил мне: “Никогда не забывай о Европе”. Он говорил: “Никогда не подставляй ей спину. Дилеры. Вербовщики. Картографы. Никогда не доверяй европейцам. Никогда не здоровайся с ними”. Но мы… О, нас так легко увлечь! Мы поддались на ваши речи, награды и церемонии. Что я делаю эти последние годы? Отрезаю провода, обезвреживаю дьявольские штуки. Зачем? Чтобы это случилось?
— Что случилось? Господи, да скажи же нам, наконец!
— Я оставлю вам радио, где вам будет преподан урок истории. Не двигайся, Караваджо. Все эти высокопарные речи королей, королев и президентов… абстрактные рассуждения о цивилизации и о коричневой чуме, которая ей якобы больше не угрожает. А вы послушайте, чем это пахнет. Послушайте радио и почувствуйте торжество в интонациях… В моей стране, когда отец нарушает справедливость, вы должны его убить.
— Сделай это, Кип. Я ничего не хочу больше слышать.
Он (английский пациент. — “Эксперт”) закрывает глаза и уплывает в темноту, подальше от этой комнаты. Сапер прислоняется к стене, руки сложены, голова опушена вниз. Караваджо слышит, как он дышит, быстро и тяжело; шум воздуха в ноздрях напоминает работу поршня.
— Он же не англичанин.
— Какая разница — американец или француз, мне наплевать. Когда вы начинаете бомбить желтую расу, вы англичане. У вас был король Леопольд в Бельгии, а теперь появился этот проклятый Гарри Трумэн в США. А всему вы научились у англичан.
— Нет. Он ни при чем. Это ошибка. Из всех людей он, возможно, единственный, кто тебя понимает.
— Он скажет, что и это не имеет значения, — говорит Хана.
Дэвид не может повернуться и посмотреть на сапера или на расплывчатое пятно платья Ханы. Он знает, что молодой солдат прав. Они бы никогда не сбросили такую бомбу на белую нацию».
Это, конечно, кульминация. Но кульминация не столько романной композиции, сколько почти пятисотлетней истории европейской колонизации. Ни уничтоженные индейцы Америки, ни униженная наркотиком культуры Африка, ни золотоносная Азия — никогда не сбросили бы такую бомбу на белую нацию.
Роман заканчивается тем, что сикх-сапер бежит сквозь разрушенную Италию к побережью. Оттуда он уплывет на родину и станет врачом: «Его живое тело движется сквозь все это спящее царство, находящееся на краю такой злой и смертельно опасной Европы». Роман Ондатже — прекрасный и печальный приговор Европе. Кумиры если еще не сброшены, то разоблачены. За этим выпадом следует ожидать, что молчаливая Европа все же ответит. Она и отвечает.

«Линкольн в бардо»
Последний в списке лучших книг Букера — совсем недавний роман-лауреат «Линкольн в бардо» Джорджа Сондерса (2017). Это странное, полумистическое произведение, написанное непоследовательно и довольно трудно читаемое. Сюжет изломан и очень нетрадиционен для Букера. Речь идет об Америке и только об Америке. Так как американская литература вошла в кругозор жюри премии только в 2014 году, лауреатство американского писателя кажется не лишенным политического подтекста. В центре сюжета Сондерса — одиннадцатилетний сын президента Линкольна, который умирает в самый неподходящий момент. Война Севера и Юга начинает задыхаться, тяжелые поражения северян ведут страну к падению военного духа, а самого Линкольна — к тяжелому чувству вины и сомнениям. Умерший сын Уилли попадает не в загробный мир, а в то, что буддисты называют бардо — крохотный пятачок между жизнью и смертью. Там он решает и остаться в надежде на то, что отец скоро придет за ним. Это не собственно сюжет, а некая предыстория ситуации. Настоящее повествование Сондерса разворачивается уже на кладбище. Покойники, соседи Уилли, разговаривают друг с другом. Перед читателем проходит череда трудных судеб, которые складывают в некий перечень болей и обид американского народа. Это роман-памятник трагической американской истории, трагедии других народов здесь не учтены. Это значит, что вопрошание окраин остается без ответа. Попытку Сондерса можно считать не засчитанной.
Собственно, весь букеровский список свидетельствует, что диалог окраин и центра повисает в воздухе и ничем не заканчивается. Обвинения окраины смолкают там, где следует ожидать какого-то дельного предложения с их стороны. И кажется, что окраине нечего предложить центру.
В свободном государстве
Первым из романов, представленных в шорт-листе Букера, стоит сборник из трех повестей индуса Видиадхара Найпола «В подвешенном состоянии» («В свободном государстве»). Сборник получил своего Букера в 1971 году. Три повести рассказывают три истории бегства — индийца в Вашингтон, тринидадцев в Лондон и европейцев в Африку. Каждая история, в сущности, об одном: одержимые идеями свободы и свободного выбора, жертвы очередных европейских обманок оказываются «в подвешенном состоянии» без прошлого и будущего, без перспектив и надежд.
Злая ирония Найпола заслужила ему сомнительное признание в качестве «лучшего писателя из третьего мира». Так окрестил темнокожего брахмана крахмально белый Джон Апдайк. Правда, белизна Апдайка не позволила ему получить Нобелевскую премию, а вот «писателю из третьего мира» ее дали, и весь первый мир узнал, что бывает с людьми, поверившими в призраки.
Когда Найполу в 2001 году вручали Нобелевскую премию, комитет премии сообщил, что награждает его за «непреклонную честность, заставляющую нас задуматься над фактами, которые обычно не принято обсуждать». Вскоре эта бестактность, вознесшая Найпола на литературный олимп, благодаря его таланту стала чем-то большим, чем просто невежество аборигена. Его награждение стало фактом в октябре 2001 года, буквально через месяц после падения башен-близнецов. Медлительные шведы не потрудились изменить формулировку, с которой Найпол восходил на литературный олимп. Но награда вручалась на фоне как раз тех процессов, которые постепенно перевели диалог окраин и метрополии из разряда экзотической бестактности в реалии политической повседневности. То, о чем в момент написания этих книг говорить было не принято, теперь становится актуальным и едва ли не привычным страданием всей англосаксонской культуры, обезболивания от которого еще не изобретено.





