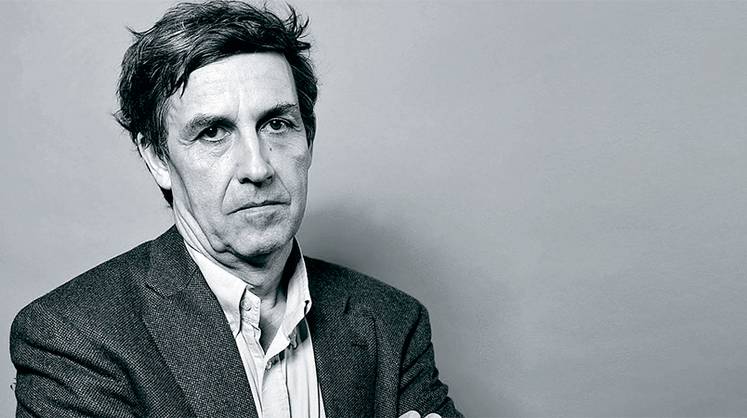Социолог, демограф, антрополог и историк Эммануэль Тодд — мыслитель, который неизменно выступал возмутителем спокойствия и был предельно откровенен. В 1976 году, когда ему было двадцать пять лет, он опубликовал работу «Окончательный крах» — тогда во французских интеллектуальных кругах было практически недопустимо критиковать Советский Союз, а он сразу предсказал его распад, основываясь преимущественно на демографических данных. В начале 1990-х в Евросоюзе полным ходом шли процессы интеграции, а Тодд выступил против Маастрихтского договора и пообещал, что введение евро не принесет ничего хорошего странам Южной Европы.
Позже вышла его знаменитая книга «После империи», в которой он объявил об упадке США, хотя именно в тот период, после терактов 11 сентября 2001 года, все демонстрировали свою поддержку Соединенным Штатам. После терактов в газете Charlie Hebdo и в кошерном магазине в январе 2015 года он пытался понять, что означает феномен «Я Шарли», увидел в нем усиление исламофобии и приближающийся подъем антисемитизма, в связи с чем опубликовал эссе, полностью противоречащее общественному мнению: заявил, что лично он — «не Шарли».
Сегодня, выступая против внутренней и внешней политики Эммануэля Макрона, которую французские СМИ пытаются защитить насколько это возможно, Тодд продолжает шокировать, заявляя, что считает русофобию «абсурдной загадкой истории», что он не видит в избрании Дональда Трампа или в брекзите никаких реальных катаклизмов, которые предвещали бы апокалипсис, что «желтые жилеты» вернули его чувство гордости за французов.
Эмманюэль Тодд, конечно, не ясновидящий. У него бывали сомнения, его позиции менялись. Например, некоторое время он считал, что евро — потенциальный инструмент для освобождения Европы от американского влияния, и надеялся, что приход Франсуа Олланда ознаменует возвращение Франции к истинно левой политике. Он ошибся. Тем не менее Тодд гораздо чаще оказывался прав, чем многие специалисты. Неудивительно, что это раздражает как представителей европейского мейнстрима, так и его оппонентов.
Благодаря своей специализации Тодд видит нашу планету и ее историю в перспективе. Центральная гипотеза и исследовательская тема его жизни — преобладающая роль семейных структур в создании и эволюции масштабных коллективных явлений (идеологии, поведения избирателей, политических систем). Его инструменты — демографические данные (коэффициент рождаемости, младенческая смертность, уровень грамотности и т. д.) и антропологические факторы. Можно соглашаться или не соглашаться с его подходом, но в своей области он непререкаемый авторитет. Не только во Франции, но и, скажем, в Японии — единственной стране, где, как он считает, люди его полностью понимают.
После публикации новой книги Эммануэля Тодда «Где мы? Эскиз истории человечества», своеобразного промежуточного итога многолетних исследований, мы посчитали, что пришло время познакомить российскую публику с необычным мнением этого автора. Взять интервью у Тодда — задача не из простых. Он любит поговорить и без колебаний выводит вас на темы, которые вы не могли предусмотреть и которые, возможно, он сам не собирался обсуждать. Его тон, готовность к диалогу заставляют вас практически забыть о том, какие серьезные исследования он проводит, насколько глубоки ваши вопросы, и в конце концов вам кажется, что вы обсуждаете мировые проблемы с хорошим другом. И хотя Тодд резко критикует европейскую политическую элиту, зачастую с юмором, он остается при этом очень доброжелательным.
Несмотря на то что Тодд постепенно становится все более пессимистичным, заявляя, в частности, что глобализация приводит к слишком быстрому сближению народов, которые не понимают друг друга, мы предпочитаем в очередной раз обратиться к его словам, о которых он сам, скорее всего, уже не вспомнит: «Человечество — это достаточно трогательно, как в своих достижениях, так и в неудачах…»

— Специфика вашей исследовательской деятельности — изучение политической эволюции общества через призму семейных структур. С чего все началось?
— Я историк, и моей исследовательской специальностью является анализ семейных структур. Я работал с Питером Ласлеттом — самым авторитетным исследователем в этой области. Он пришел к выводу, что нуклеарная семья была доминирующей в Англии уже в семнадцатом веке. А мой научный руководитель Алан Макфарлейн написал замечательную книгу под названием The Origins of English Individualism («О происхождении английского индивидуализма»), в которой показал взаимосвязь между британским либеральным мировоззрением (как политическим, так и экономическим) и нуклеарными семейными структурами, которые определил Ласлетт.
И вот однажды, когда я проводил время, лежа на диване у мамы и размышляя (чувствуете, как это по-фрейдовски?!), в моем воображении сформировались две наложенные друг на друга карты. Первая — карта мира «завершенного коммунизма», как я это называю, то есть коммунизма в моменте его наибольшей экспансии, коммунизма «эндогенного», я бы сказал, коммунизма, который пришел либо через революции, либо через выборы в Западной Европе или в Индии. На этой карте были, разумеется, СССР, Китай, Вьетнам, большая часть Югославии…
— И Куба?
— Куба, да. Но несколько иначе, тут позже необходимы уточнения. Кроме того, нельзя забывать про избирательные оплоты коммунистов в Западной Европе: центр Италии, северо-западный край Центрального массива во Франции, север Финляндии…
— А вторая карта?
— Я понял, что объединяло все эти регионы: они имели общую традиционную семейную структуру в крестьянской среде. Дети живут у отца и приводят своих жен в родительский дом. Это патрилинейные системы. Я называю такие семьи семьями-общинами (раньше их называли патриархальными семьями). И вдруг меня осенило — ведь это очевидно! — какие ценности присущи такой семейной структуре. Авторитет в отношениях между родителями и детьми (взрослые сыновья, которые сами стали отцами, находятся под авторитетом своего отца) и равенство (после смерти отца наследство делится поровну). А ведь авторитет и равенство — коммунистические ценности. Когда под влиянием новых веяний (таких как урбанизация, образование, развитие транспортных систем) эта традиционная крестьянская система распалась, люди вышли за рамки семейных ценностей, но традиция авторитета и равенства все еще занимала важное место в их сознании, а потому люди инстинктивно стремились как-то заменить ту семейную систему, которая была утрачена. В случае России это нашло отображение в централизованной партии, плановой экономике. Я обычно добавляю, что советская организация, которая ближе всего была к «семье-общине», — КГБ, потому он занимался непосредственно людьми.
Эта понятная для России гипотеза проверяется в других местах. Хотя иногда бывают различия. Так, некоторые системы построены на матрилинейной модели: например, на Кубе, а еще в Керале, в Индии. Затем мне надо было проверить свою гипотезу. Я провел несколько месяцев в библиотеке Музея человека в Париже, стремясь классифицировать все семейные системы на Земле и проверить свою гипотезу научным путем, рассматривая страны по отдельности.
— Вы начали с коммунизма?
— Да, я сам был членом коммунистической партии на протяжении нескольких лет. Мой дед, писатель Пол Низан, тоже состоял в этой партии, но вышел из нее после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. Мое базовое политическое образование было марксистско-ленинского толка. Правда, я недолго придерживался такого мировоззрения.
Вскоре я приступил к работе над диссертацией в Англии — часть моей семьи родом оттуда — и вдруг оказался в совершенно другом мире. Я отмечал, как карты, о которых я говорил, накладывались друг на друга, затем я идентифицировал другие семейные структуры, констатируя, что они порождают новые идеологические системы. Россия, например, находится между двумя странами, где доминирует тип «семья-родоначальник», — Германией и Японией. Эти две страны никогда не были либеральными «по-английски» и никогда не были коммунистическими «по-русски», но в них развилось общество коллективистской направленности, в котором иерархия играет очень большую роль.

О причинах русофобии
— Де Токвиль пишет, что в эпоху демократии историки будут воспринимать историю не как результат действий политических лидеров, а как результат движения больших исторических волн. Считаете ли вы, что так называемые великие политики становятся таковыми не за счет собственных амбиций, а благодаря некой сложной системе, и страны не могут скрыться от детерминизма?
— Великие политики… Я последователь школы Анналов, ученик Ле Руа Ладюри. Когда я учился, мы не интересовались влиянием политиков, и я до сих пор считаю, что роль таких людей не очень велика. Я сам живу во Франции времен президента Макрона, поэтому, как вы можете понять, мне очень трудно осознать роль великих людей в истории. Политик может быть великим только в том случае, если он интуитивно воспринимает те силы, которые двигают историю. Черчилль, де Голль, Рузвельт были великими политиками. Бисмарк — тоже. У него была хорошая черта: он знал, когда нужно остановиться. Тогда как у Наполеона были с этим большие проблемы.
Ленин — величайший исторический деятель. Я считаю, что он чувствовал русскую культуру. Это было чем-то выходящим за рамки сознания, чем-то, что помогло ему создать образ большевистской партии, придумать революцию… Хотя его теория была далека от реальности. Он нигде не пишет, что революция возможна благодаря таким ценностям, как равенство и авторитет, имевшими большое значение в русской семье, которая тогда исчезала.
Однако детерминизм, безусловно, имеет место. В начале двадцатого века доминирующая система (либерализм, социал-демократия, нацизм, коммунизм) в значительной степени определялась семейной структурой. Когда я заговорил об этом во Франции в начале восьмидесятых, люди были возмущены, потому что приняли мою теорию за неуважение к свободе человека. Тем временем японцы — единственный народ, который относится ко мне вполне серьезно, — считают мою теорию абсолютно естественной.
О, сколько было негодования! Как человек может быть детерминирован? Враждебная реакция была сильнее в либеральных странах, где люди предпочитают думать, что они действительно свободны. А моя теория такова: да, французы, англичане, американцы — люди либеральные, но на метафизическим уровне, или, скорее, на инфрафизическим, их либерализм подспудно определен семейной структурой: если бы они хотели стать авторитарными, то не смогли бы.
— Вы отмечаете, что появление нуклеарной семьи практически повсюду на планете не привело к развитию либерализма и демократии, как, в теории, должно было бы произойти. Таким образом, система перестала работать?
— Когда я говорю о политических системах, сформировавшихся во времена модернизации, речь идет лишь о части истории, и значение систем может уменьшаться. Так, Россия больше не коммунистическая страна. Траектории людей теперь сложнее, но моя теория все равно полезна, потому что следы прежних ценностей по-прежнему заметны. В наши дни в России доминирует нуклеарная система. Однако общинные ценности по-прежнему существуют, и я думаю, что это позволяет понять, почему падение коммунизма и переход на рыночную экономику привели не к формированию ультралиберальной экономики, как в США, а к возникновению смешанной системы. Обычно я определяю Россию как «авторитарную демократию». Однако авторитаризм проявляется не в действиях российского правительства, а в неких неопределенных чаяниях русского народа. Русский общинный менталитет не исчез. У меня было предчувствие во времена распада СССР, что внедрять неолиберализм в России — глупая затея.
Моя теория помогает понять, почему Запад сейчас переживает раскол. С одной стороны находится континентальная Европа, подчиненная Германии, а с другой — англоязычная группа (Англия, США, Канада, Австралия). И это объяснимо. В еврозоне доминирует семья-родоначальник германского типа (в Австрии, на севере Испании, в приграничных областях Франции). В англосаксонских странах полноценный индивидуализм все еще существует благодаря доминированию нуклеарной семьи. Немецкая авторитарная система в этом плане — антагонист англосаксонского мира, для которого равенство не имеет значения. Немцы умеют делать то, что англо-американцы не умеют, и наоборот. Считаю, что в будущем нас ждет конфликт между Германией и США, и большая часть современного непонимания между Европой и США объясняется тем, что системы, о которых мы говорим, продолжают действовать.
— Является ли «зомби-католицизм», который вы описывали, наблюдая за реакцией на теракт против Charlie Hebdo во Франции, «продолжением существования системы»? Может быть, упадок традиционных религий в Европе не столь очевиден, как кажется?
— Вы правы, когда ставите в один ряд продолжение существования (или инерционность) систем семейных и религиозных ценностей. Однако я полагаю, что религия кончилась, даже если сейчас на эту тему ведутся какие-то исследования. Нам постоянно говорят, что религия возвращается в Европу (а мы по-прежнему ждем ее), что она вернулась в Россию… Я не говорю, что ничего не происходит, но я не верю в жизнеспособность религии.
Я верю в устойчивость ценностей, я верю, допустим, в особенность русской системы: роль женщины (это, вероятно, одна из главных причин исторического динамизма России). По причине семейных традиций в России ярко выраженное коллективное мышление совмещается с высоким статусом женщины. Это редкий пример в истории, но он объясняет динамизм России. Вот почему она раздражает ультралибералов англосаксонского мира.
— Сейчас вы занимаетесь изучением концепта семьи ЛГБТ. Может, еще рано делать выводы, но что говорят ваши исследования сейчас?
— Если такая семья ЛГБТ вообще существует… Этот вопрос еще предстоит изучить. Мы не знаем, куда мы движемся, но мне кажется, что эволюция не столь радикальна, как принято считать. Эмансипация женщин, превосходство женщин над мужчинами в вопросах образования в России и в США (но не в Германии!) — вот абсолютно новый феномен. Эта эволюция интересна, потому что она беспрецедентна. Однако я считаю, что гомосексуальная эмансипация — лишь возвращение к традиционной жизни Homo sapiens, который спокойно принимал гомосексуальность в качестве неосновного поведения. Я не вижу, почему это может стать проблемой для развитых обществ. Это, кстати, очень смешно: люди думают, что они живут в «суперсовременности», хотя это не что иное, как возвращение к естественному положению вещей.
А вот вопросы транссексуальности, которые заботят часть западного общества, это уже попытка выйти за рамки биологической принадлежности. И это довольно ново. Но что странно, так это то, что этот нравственный вопрос находится в центре международных геополитических споров. И у меня есть гипотеза. Когда я слушаю и читаю СМИ — хотя одна из моих бабушек была лесбиянкой и я нормально отношусь к таким вещам, — мне всегда интересно: не в этом ли одна из подсознательных причин современной русофобии?
Россия, определяющая себя как консервативную страну, стала образцом для западных консерваторов. Если мы оставим в стороне вопросы стратегического толка (Россия — стратегический противник США), мы поймем, что, возможно, западная русофобия — результат нашего семейного и сексуального авантюризма, результат нашей попытки пойти вопреки человеческой природе… Может быть, мы переживаем за себя, и видим, что Россия не хочет идти за нами. Беспокойство, которое испытывает западное общество, порождает бессознательный страх перед тем, что русские оказались правы, выбрав осторожность. Это сложно доказать, но эту гипотезу следовало бы взять в разработку.

Демократия не ангельская система
— Вы большой противник евро. Вы всегда говорили, что такая валюта никогда не будет успешно работать по причине неоднородности европейских обществ. Но возможен ли в принципе успешный политический союз стран Европы и как он тогда должен выглядеть?
— Это Европа идеологов-маньяков единства не может существовать. Это мечта послевоенных лет, когда Западная Европа старалась догнать США. Везде были высокие темпы экономического роста. Благосостояние людей росло. Однако, когда появились трудности, люди стали удаляться друг от друга. Идея о достижении единства через валюту, которую невозможно девальвировать, только усугубило этот раскол.
Разнообразие нравов, менталитетов, семейных ценностей ведет к тому, что все страны действуют по-разному, имеют разные типы экономики. Еврозону контролирует Германия — страна со своими особенностями. У Франции тоже есть свои преимущества, но дисциплина не относится к их числу, а индустрия находится в процессе разрушения. Италия — тоже отдельная тема…
Если бы ЕС стремился оставаться разнообразным, со всем своим множеством наций и валют, неким европейским содружеством, которое работало бы сообща, такая Европа, напротив, имела бы огромное преимущество перед США, Китаем, Россией.
— Вы сказали, что «макронизм» — проявление снижения уровня жизни во Франции. Как вы объясняете то, что французские элиты приняли неолиберализм, а вместе с ним и неравенство, тогда как французская традиция гораздо больше дорожит равенством, чем, скажем, английская?
— Я не думаю, что французская элита приняла неолиберализм. Она участвовала в разработке валюты, которая не работает, в создании системы, которая поставила ее на службу экономического господства Германии. Французская элита испытывает совершенно необъяснимое очарование перед Берлином. Это очень похоже на добровольное рабство. Для меня это не либерализм. Экономический паралич Франции, которая не контролирует свою валюту, которая ограничена европейскими требованиями к бюджетному дефициту, ведет к тому, что Франции приходится стремиться к уменьшению расходов на оплату труда, к тому, чтобы делать рынок труда более гибким. Это отдаленно напоминает реформы, которые Тэтчер давным-давно провела в Англии, но французский либерализм вообще ни на что не похож. Политически система все более и более авторитарна, а экономически не свободна. Это, скорее, принятие авторитарных и неэгалитарных ценностей Германии.
Европейская валюта по своей природе антилиберальна, а выпускники Национальной школы администрации вообще не понимают, что такое совершенная конкуренция. Хочу заметить, что так я говорю впервые — все из-за вашего вопроса! Я тоже думал, что Макрон хотел использовать неолиберальные методы. Я даже пошутил, что Макрон — это Тэтчер, только старше и менее мужественный! Но на самом деле нет. Евро — валюта, придуманная чиновниками, и у руководства крупных французских банков менталитет чиновников. Они пытаются организовать что-то вроде подчиненного слияния с Германией.
— Вы удивили, когда сказали, что победа Трампа в США и брекзит в Соединенном Королевстве — подлинные примеры демократии, и что Евросоюз и его медийно-политическая элита ничего не поняли.
— Тут следует уточнить, что для меня демократия не является некоей ангельской системой. Демократия — это когда определенный народ организует свою жизнь на определенной территории. Вот почему такая система всегда имеет националистский и, возможно, ксенофобский аспект. Демократии могут быть похожи друг на друга, идея свободы и равенства людей может стать универсальным мировоззрением, но я считаю, что в корне демократии всегда присутствует ксенофобский элемент. Афины были экстремально ксенофобским государством. Англия, другой пример большой демократии, став протестантской страной, превратилась в ярого борца с католиками. Третий пример — американская демократия, которая появилась в противостоянии с индейцами и неграми. Брекзит случился отчасти потому, что англичане считали, что у них в стране слишком много поляков, тогда как в победе Трампа большую роль сыграла иммиграция.
У тех, кто на Западе занимается политологией, есть одно абсурдное стремление: им хочется, чтобы все позитивные явления были присущи одной системе, а все негативные — другой. Разумеется, враждебной. Они грезят о демократии, выборных органах власти, об универсальной системе. Однако изначально в истории универсальная система — это не демократия, а империя: Рим.
— Поговорим о другом факторе, который может перевернуть европейский порядок, — о миграции. Правильно ли утверждать, что интеграция мигрантов в европейское общество совершенно невозможна?
— Это очень сложный вопрос. В моей книге, опубликованной в 1994 году, которая называется «Судьба иммигрантов», я одним из первых обратил внимание на то, что иммигранты из арабского мира — совсем не то же самое, что итальянцы, испанцы и португальцы: семейная структура у них другая, с большим количеством свадеб между двоюродными братьями и сестрами, что усложняет ситуацию (я не уделяю внимания религии, когда речь идет об иммиграции). Однако тогда я был намного оптимистичнее. Я не предвидел экономический паралич, который охватил французское государство.
Доминирующее общество может устанавливать свои ценности, если в условиях динамичной экономики существует социальный лифт. Но если такой динамики нет, все группы — не только иммигранты — становятся замкнутыми. Что касается Германии, в этой стране появилось огромное население с совсем другой семейной системой. Можно предположить, что будет еще сложнее. Но, с другой стороны, немецкая экономика в хорошем состоянии и Германии нужны трудовые ресурсы. В результате с интеграцией мигрантов возникает меньше проблем.
— На одной из конференций вы сказали: «Сегодняшний прогресс очень похож на движение к рабству». Не могли бы вы развить эту мысль?
— Я говорил это с точки зрения экономики: в наши дни рынок угнетает людей, ведет к снижению уровня жизни, и — как мы это видели на примере США — к увеличению смертности.
Но у меня есть и антропологическое объяснение. Современные исследования позволяют сделать вывод, что индивидуализм поменялся. Раньше был «рамочный» индивидуализм — человек восхвалялся, но как часть коллектива, нации, класса, религии. Человек был тогда сильным. В античном мире, в Афинах, человек был неординарным через свою принадлежность неординарному обществу. Но потом появился человек, который отрицает общность. А быть человеком очень сложно. Человеческий удел сложен. И без принадлежности к какой-либо общности человек — парадоксально — становится все меньше и меньше, все покорнее миметическим феноменам, он все более подавлен.

Русские в состоянии управлять огромной страной
— Три очень важные с геополитической точки зрения страны столкнутся с серьезными демографическими проблемами: Россия, Китай, Япония. Каким вы видите демографическое и политическое будущее этих трех соседей?
— Если показатель общей плодовитости России не упадет и миграция сыграет определенную роль, у России все будет нормально.
— Даже при такой огромной территории?
— Страна, которая больше всего беспокоит демографов — людей моей профессии, — Китай. У нас восприятие этой страны радикально отличается от восприятия тех, кто интересуется экономическими и финансовыми вопросами. Я не хочу сказать, что Китай — демографический «бумажный тигр», но коэффициент общей плодовитости упал, и население быстро стареет. Китайцы пока не перестроили свою экономику так, чтобы она опиралась на внутренний рынок, — они очень зависят от США. Можно объяснить часть современного геополитического непонимания так: много лет говорили, что Китай — в противоположность России — уходил от коммунизма грамотно, но скоро мы поймем, что Россия справилась с этим лучше.
Понятно, что на такой территории, как у России, живет слишком мало людей, мне хорошо знакома эта карта! Но русские в состоянии управлять огромной страной. Россия намного более продвинута в сфере образования, она среди лидеров.
У Китая свои недостатки: процент мужчин от общего числа населения абсолютно ненормальный. Там практикуют селективный аборт — женских эмбрионов. Китайской семье-общине несвойственна та огромная роль, которую играет женщина в русской патрилинейной семье (что я считаю странным). Исторически объяснить это можно: русская семья-община довольно молода, тогда как история китайской семьи-общины — это тысячелетия понижения статуса женщины.
При этом Китай превратился в основного партнера России в ситуации, когда Запад стал параноидальным и агрессивным. У России нет выбора.
— Выходит, Запад сделал большую стратегическую ошибку, подтолкнув Россию к альянсу с Китаем?
— Безусловно. Но я думаю, что русские дипломаты сумеют сделать так, чтобы у них оставались разные опции. У них совсем другой интеллектуальный уровень, нежели, например, у французских дипломатов.
— Что касается Японии…
— Это очень стабильная страна, но ее население сокращается. Это, по-моему, правильный партнер для России. Хотя эти страны очень различаются по размеру, их население более или менее одинаково по численности, а сотрудничество могло бы послужить глобальной стабильности. К сожалению, США блокируют Японию, и в коллективном представлении японцев образ России не слишком привлекателен. Это объясняется тем, какой ценой далась Японии победа в 1905 году, а также тем, что России включилась, хотя и поздно, в 1945 году, в войну. Однако Синдзо Абэ хорошо осознал интересы Японии в партнерстве с Россией, и я думаю, что Путин понял, что Абэ это понял!
Моя подлинная геополитическая мечта шире: как я сказал, конфликт строится между англосферой и «немецкой» континентальной Европой. Американские геополитики поняли, что объединение Германии было огромной стратегической ошибкой, так как из-за этого они потеряли контроль над Европой. Германия уже не подчиняется им и с помощью Франции (мне стыдно это говорить) сдавливает Европу. Да, мне знакома эта непонятная русофобия английских СМИ, но стратегическая реальность такова, что не Россия, а немецко-французский блок угрожает Соединенному Королевству и его суверенитету (особенно если говорить о Северной Ирландии). В этом новом контексте геополитический консерватизм, который американцы и англичане получили в наследство со времен холодной войны, не может длиться бесконечно. Я француз, я связан с англо-американским миром, но считаю, что позитивная роль России в том, что она всегда добавляла равновесия в международные отношения, и я все еще надеюсь, что между англо-американским миром и Россией будет сближение. Посмотрим, кто я: хороший специалист, изучающий перспективы развития общества, или мечтатель.