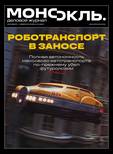Премьер-министр Японии Сигэру Исиба на прошлой неделе подал в отставку. Формальным поводом послужили неудачи правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), потерявшей большинство мест в верхней палате парламента.
Кресло под премьером качалось давно. В частности, весной этого года разразился скандал с подчиненным. Министр сельского хозяйства Японии Таку Это, выступая на мероприятии по сбору средств для ЛДП, в шутливой форме сказал, что он белый рис не покупает, потому что его семье его дарят в таких количествах, «что впору даже продавать».
Заявление прозвучало на фоне рекордного роста цен на белый рис в Японии. Скандал получился знатный. Публично извиняться за прокол Таку Это пришлось его начальнику ― Сигэру Исибе. Что для патриархальной Японии, где любой руководитель — это полубог, а премьер и вовсе небожитель, выходит за рамки любых приличий и традиций.
История с белым рисом показательна, так как многое говорит о состоянии японского общества, затяжном экономическом кризисе и постепенном, медленном обнищании жителей страны. Ведь, по сути, произошел азиатский аналог «арабской весны» десятилетней давности. Тогда по Ближнему Востоку и Африке прокатилась серия антиправительственных протестов, восстаний и вооруженных мятежей. Поводом для «арабской весны» также послужили резко подорожавшие зерновые. Однако большинство стран Ближнего Востока относятся по нынешней классификации к развивающимся странам. По-старому это страны третьего мира с соответствующим доходом населения. Тогда как Япония уже более полувека формально относится к странам первого мира, или к развитым странам с соответствующим уровнем зарплат. А тут инфляция, белый рис, отставка премьера.
Что же произошло с Японией? Ответ прост: с ней просто ничего не произошло. Когда окружающий страну мир динамично развивался, модернизировался, конкурировал, искал место под солнцем, экономика Японии стояла на месте. Из 20 крупнейших экономик планеты японская ― единственная, продемонстрировавшая отрицательный подушевой рост ВВП за последние четверть века. Это на фоне роста подушевого ВВП Китая за это время на 1273%, России — на 740%, Индонезии — на 545%. В результате сегодня подушевой ВВП Японии находится в одном ряду с Португалией и Польшей ― в районе 50 тыс. долларов на человека в год. При сохранении тенденций до конца этого десятилетия средний россиянин будет жить лучше среднего японца.