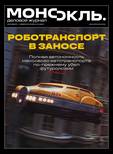Лет пятнадцать назад создатель «Алибабы» Джек Ма сказал, что в недалеком будущем главным дефицитом станут люди, которые умеют что-то делать руками.
Видимо, он понял, что появившийся универсальный механизм торговли товарами по всему миру очень быстро вовлечет в глобальную дисперсную торговлю тысячи коммерсантов и эта махина будет требовать все больше и больше физического товара, который некому будет производить.
Пока дефицита на маркетплейсах нет. Коммерсанты наладили производство удивительно дешевых вещей, прежде всего в странах Азии, однако качество и уникальность производимого падают на глазах. Глобальная интернет-торговля добивает роскошную индустриальную культуру, выращенную западным миром за три века. Культуру, где качество товара было прямым продолжением работы людей руками: с металлом, кожей, пластиком, тканью.
Российские зумеры неожиданно энергично решили ответить на это опасение Джека Ма. Начало нынешнего учебного сезона показало взрывной рост поступлений в средние профессиональные учебные заведения. Удивляет и мотивация студентов, и качество их образовательного фундамента. Так, главным мотивом поступить в профучилище зумеры называют желание как можно быстрее начать работать. Это, безусловно, новый социальный тренд. Уже много десятилетий возраст, когда молодые люди начинают работать, постоянно повышался, приблизившись к тридцати, а то и выйдя за этот рубеж. Молодые люди учились сначала в институте, потом в аспирантуре, потом еще на каких-то курсах или получали второе образование. Казалось, это отложенное взросление — неизменный тренд. Но нет — по крайней мере, в России прямо сейчас это не так.