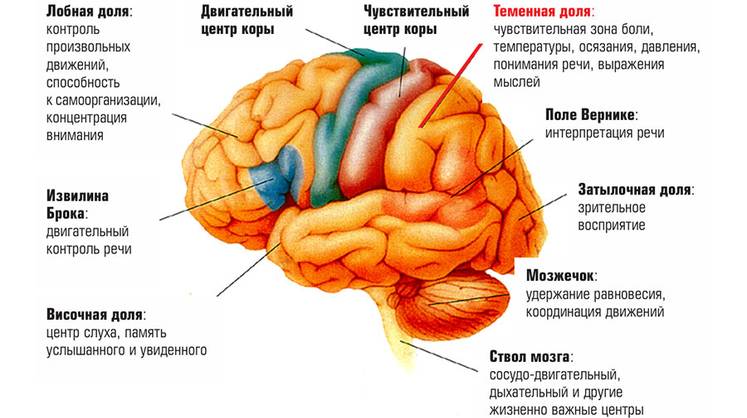Несмотря на вековую историю исследования боли, человек так до конца и не научился ею управлять. К настоящему времени известен основной механизм запуска болевых ощущений — это реакции определенных белков-рецепторов на внешние факторы и передача их сигнала сначала в спинной, а затем и в головной мозг. На сегодняшний день существует широкий спектр обезболивающих препаратов, но с мучениями после тяжелых травм или на поздних стадиях онкозаболеваний справляются лишь опиоиды. Воздействуя на конкретные типы рецепторов (как правило, мю-рецепторы), они активируют в мозге естественную защиту — выработку нейропептидных соединений (энкефалин, эндорфин и другие). Эти вещества блокируют передачу болевых импульсов и меняют восприятие боли мозгом, порой человек даже начинает испытывать эйфорию. Но цена освобождения от боли при помощи опиоидов высока: они угнетают дыхательный центр, повышают давление, дают осложнения на сердце и почки, а кроме того, вызывают привыкание, то есть действуют как наркотик.
«Опиоиды связываются с определенными рецепторами спинного и головного мозга и, блокируя сигналы боли, высвобождают нейромедиаторы, отвечающие за эмоции вознаграждения и удовольствия. Со временем мозг привыкает к искусственным всплескам “гормонов счастья” и начинает их ждать, при этом естественное производство нейромедиаторов снижается, и человек утрачивает способность испытывать удовольствие без наркотика. Такой цикл быстро приводит к возникновению зависимости даже у людей, которые начали употреблять опиоиды по медицинским показаниям», — комментирует Елена Лейченко, заведующая лабораторией молекулярной фармакологии и биомедицины Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова (ТИБОХ ДВО РАН).