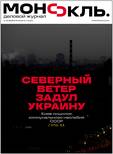Последнее время наше народное хозяйство переживало серьезную структурную трансформацию, включавшую в себя впечатляющий рост отдельных секторов: обрабатывающей промышленности, ИТ, строительства. Одним из локомотивов и выгодоприобретателей этого роста, само собой, стал частный бизнес — крупные, средние и малые компании: двузначные и даже трехзначные показатели увеличения выручки в 2023‒2024 годах были чуть ли не общим местом.
Но в 2025 году этот восходящий тренд закончился, более того, осенью к аналитическим данным о замедлении экономики добавились новости о грядущих изменениях в системе налогообложения, которые со всей очевидностью приведут к существенному снижению рентабельности бизнеса. Последнее должно сказаться на объеме его инвестиций и привести к еще большему торможению роста. Впрочем, должно или не должно, это еще вопрос.
С Сергеем Макшановым, управляющим «АРБ Про» (стратегический консалтинг), мы поговорили о том, какие закономерности и случайности в поведении бизнеса могут сработать в нынешней макроэкономической реальности, об актуальных точках роста, особенностях конкуренции и причинах пробуксовывания инноваций.
— Сергей Иванович, экономика и бизнес сталкиваются все с новыми вызовами, в последнее время пошли разговоры о возможной рецессии. Как вы полагаете, есть ли у нас рецессия?