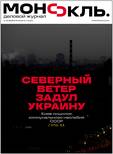Предприниматели на рынке частной медицины активно осваивают новое направление — оказание психиатрической и психологической помощи. Новые клиники открываются одна за другой, а старые расширяются. По данным аналитического агентства Eqiva, объем коммерческого рынка медицинских услуг в области психического здоровья увеличился с 17 млрд рублей в 2023 году до 20 млрд рублей в 2024-м, рост составил 18,5%.
Спектр участников и инвесторов в медицинский бизнес психотерапевтического профиля крайне широк, что свидетельствует о начальном этапе развития этого рынка. Так, центры психического здоровья развивают известные российские медицинские сети «Медси», «Семейный доктор» и другие. Продвигают свои услуги и многочисленные новые узкоспециализированные центры — например, клиника Open Mind в Москве и Санкт-Петербурге, клиника Viel, клиника «Академика» им. А. Б. Смулевича в Москве. В октябре этого года психоневрологический центр «Справиться проще» в Москве открыла блогер Карина Истомина. А соучредителем клиники психотерапевтического профиля Mental Health Center в 2024 году стал известный кардиолог, бывший главврач Первой Градской больницы Алексей Свет. Кстати, на днях Mental Health Center запустил первую на рынке франчайзинговую программу в психотерапии и за два года планирует открыть 15 клиник в разных городах России и СНГ.