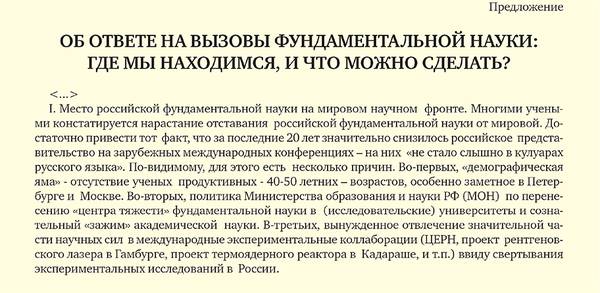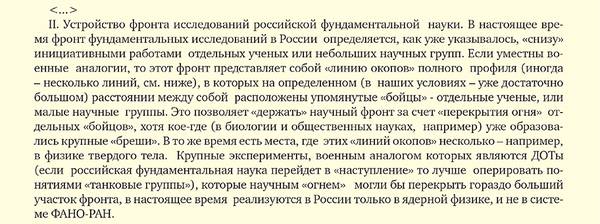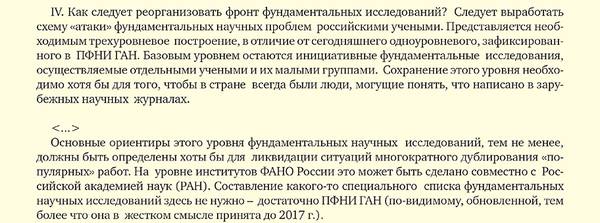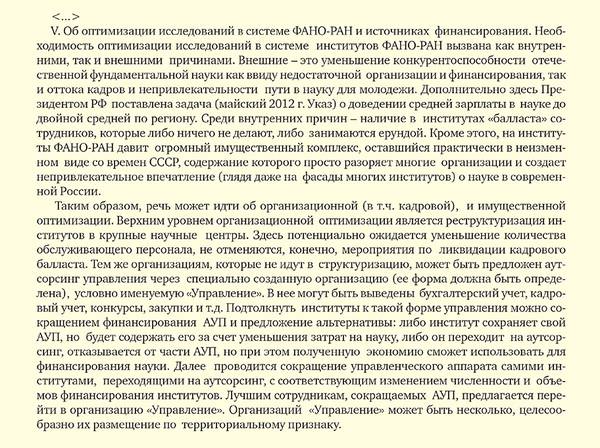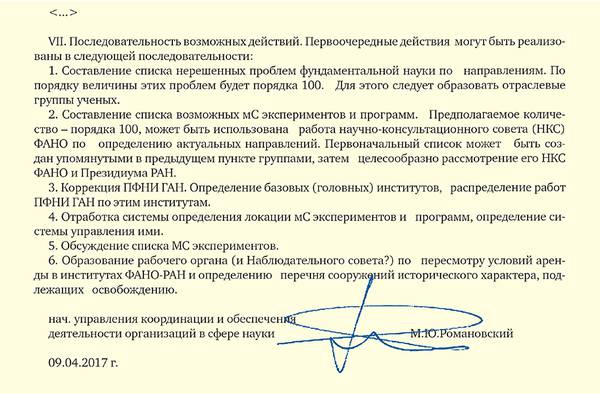Как преобразовать фундаментальную науку в России — письмо с такими предложениями (полностью см.) направил в апреле в подведомственные организации начальник управления ФАНО по координации и обеспечению деятельности организаций в сфере науки Михаил Романовский. Мы попросили прокомментировать документ известного физика, заведующего лабораторией теоретической физики Института электрофизики УрО РАН академика Михаила Садовского. По его оценке, предложения вызывают серьезные опасения.
— Чем документ опасен, Михаил Виссарионович?
— Это не сочинение на свободную тему, а мысли руководящего работника ФАНО, и они отражают задумки этого ведомства по дальнейшей замене руководства наукой со стороны Академии руководством со стороны чиновников. Михаил Романовский использует военно-полевую терминологию, а суть его идей — построить всех ученых и заставить выполнять боевой приказ. Товарищ не понимает, что наука развивается не по военным правилам, а управление в таком стиле обречено на провал.
Рассуждая о способах управления фундаментальной наукой, он вспоминает написанный в начале ХХ века знаменитый список задач математика Давида Гильберта.
И говорит: так и надо действовать — создать списки фундаментальных проблем, подлежащих решению, и кавалерийской атакой эти проблемы решить. Но так не делается нигде и никогда.
О выборе
— Возможно ли в принципе в фундаментальной науке искусственное сужение направлений поиска и не приведет ли это к тому, что за бортом окажутся потенциально прорывные?
— Великий Гильберт перечислил ряд нерешенных задач, но страшно представить, что математики ХХ и XXI веков побросали бы свои исследования и взялись за решение только его задач. Не все задачи списка даже сейчас решены, решение каждой становится событием. Но развитие математики уже больше века идет вовсе не по тем «планам». Я не математик, но назову кое-что, Гильберту просто не известное: создание математики, связанной с методами Монте-Карло; многие вопросы функционального анализа, такие как функциональные интегралы, которые давно и широко применяются в физике; теория обобщенных функций; вся математика, связанная с созданием архитектуры современных компьютеров (она началась с фон Неймана и развивается по сей день)…
Если бы и Эйнштейн век назад написал список важнейших физических задач — это был бы интересный список, но физика развивалась бы не по нему. Эйнштейн, например, считал квантовую механику неким неполным описанием природы, однако более 90% успехов современной физики связано с развитием именно квантовой механики и квантовой теории поля. Даже для гения всех времен и народов проблематично предсказать развитие науки, причем не то что на столетие, но и на пять лет.
Виталий Лазаревич Гинзбург, великий человек, накануне 70-х опубликовал в «Успехах физических наук» статью о том, какие проблемы физики и астрофизики наиболее интересны. Я читал эту статью с увлечением, и не раз: Гинзбург все написал правильно. Но современная физика далее развивалась далеко не всегда по этому списку…
Как же так: начальник управления ФАНО «по координации и обеспечению деятельности организаций в сфере науки» не знает, что фундаментальная наука практически не поддается планированию, что в ней возникают задачи, о которых буквально вчера люди и помыслить не могли…
— Зато он точно знает, например, что должны быть назначены конкретные исполнители запланированных фундаментальных работ. Предлагаемый инструментарий реорганизации, по терминологии автора, фронта исследований в принципе во многом опирается на оценочность.
— Да, в создании ориентиров для фундаментальных научных исследований предлагается в частности ликвидировать дублирование работ. Приведу пример, близкий мне как специалисту по высокотемпературной сверхпроводимости. По этой теме у нас в стране работают разные группы исследователей: в Красноярске, Екатеринбурге, Казани, немного их, к сожалению, осталось в Москве. Да, они все занимаются одной проблемой, но подходы и идеи у них разные, и никто не знает, кто в какой момент достигнет наибольшего успеха. По Романовскому, их надо все или объединить и поставить над ними одного начальника, или ликвидировать. Голубая мечта бюрократа.
Следующий момент: институтам придется сократить все «непрофильные научные исследования». Прокомментирую снова на своем примере. 30 лет назад, когда состоялось открытие высокотемпературной сверхпроводимости в оксидах меди, в науке произошел невероятный бум, и директор только что организованного Института электрофизики УрО РАН Геннадий Месяц решил тогда развивать эти исследования. Десятилетия прошли — и что? Экспериментальные исследования по этой теме в институте закончились, причем довольно давно и по разным причинам, в основном экономического характера. Однако моя теоретическая группа, созданная тогда по инициативе Месяца, все 30 лет работает, причем является, скажу без ложной скромности, одной из лучших в этой области в России, хорошо известна и за рубежом. Так исторически сложилось в нашем институте: теоретическая деятельность по сверхпроводимости не имеет прямого отношения к основному направлению — импульсной электрофизике. Но и в страшном сне не могу представить, чтобы нас в приказном порядке «пришили» к какой-то «головной» организации. Да и где найти такую в нынешнем кризисном состоянии российской науки?
У Романовского прямо говорится: ежели у института есть некое «основное» направление, то все остальное надо отрубить, перестать финансировать. Разумеется, ни к чему, кроме дальнейшей деградации науки в России, это не приведет.
Вот пример на эту тему из истории прошлого века. В Институте физических проблем Петр Леонидович Капица открыл сверхтекучесть гелия и, поскольку считал, что Лев Давидович Ландау может построить теорию этого явления, создал в Институте теоретическую группу. Ландау действительно построил такую теорию, но группа продолжала работать, из нее возникла знаменитая школа Ландау. И ее деятельность уже далеко не всегда имела прямое отношение к физике низких температур, чем в основном занимался Институт. Например, группа Ландау вела фундаментальные исследования в области квантовой теории поля. По логике начальника управления ФАНО по координации и обеспечению деятельности организаций в сфере науки, таких надо просто гнать.
В жизни бывает как раз наоборот: там, где все занимаются только по «профилю», ничего нового, как правило, не возникает. И вдруг появляется некая точка сингулярности, человек говорит — мне не интересно, чем вы все вокруг занимаетесь, я придумал кое-что и убежден, что заниматься надо именно этим. Причем необязательно, одобрит ли такое решение даже руководство его института — примеров таких сколько угодно. Кстати, работы школы Ландау по квантовой теории поля сохранили значение до нашего времени и затрагивают наиболее глубинные вопросы этой теории.
С научных сотрудников требуют из ФАНО планы на будущий год и даже на много лет вперед. А я не знаю, что буду делать даже через три месяца: в моей жизни бывало, когда приходилось резко менять область занятий в связи с новыми экспериментальными открытиями.
Прямо-таки веет от «труда» Михаила Романовского непониманием того простого факта, что фундаментальная наука — система саморазвивающаяся, причем безотносительно приказов вышестоящего начальства. По нему, нам только «фельдфебеля в Вольтеры» не хватает: создать списки задач, назначить головные организации и начальников, каждому раздать по направлению — и исполнять!
Об оценке и результативности
— Слово «оптимизация» в последнее время изменило смысл: вместо выбора лучшего варианта для достижения наибольшей эффективности оно означает теперь «сокращение». Необходимость оптимизации автор письма обосновывает наличием «“балласта” сотрудников, которые или ничего не делают, или занимаются ерундой».
— Это любимый миф журналистов, нападающих на науку, есть он и у Михаила Романовского. Я полвека в Академии наук, работал в трех институтах, а бывал в очень многих — большого количества бездельников или людей, занимающихся «ерундой», за эти годы как-то не встречал. Есть люди, работающие лучше, есть хуже. Один и тот же человек может в какие-то периоды работать хорошо, а в какие-то у него спад, ничего не получается. Но бывает, что только впоследствии выясняется, занимался человек «ерундой» или «не ерундой». А ранее — не определить, и не только по формальным критериям, но и пресловутой экспертной оценкой. Еще в советское время я, будучи аспирантом в теоротделе ФИАН, стал свидетелем поучительной истории: тогда регулярно проводились «плановые» сокращения — каждая лаборатория должна была сократить такой-то процент ставок. Ученый совет нашего отдела судил-рядил, а нужно было сократить доктора наук, и в конце концов определил: это Юрий Абрамович Гольфанд, человек, занимающийся «непонятно чем». В итоге он долго не работал, потом эмигрировал, вскорости умер. А через несколько лет выяснилось: Гольфанд занимался тем, что сегодня называется «суперсимметрия в теории элементарных частиц». То есть уволенный как малоценный сотрудник в реальности оказался основателем огромного научного направления, ссылка на него в любой статье или монографии по суперсимметрии — сейчас первая. А ведь сокращали его, как занимающегося непрофильными делами, люди неглупые, более того — мудрые.
— Кстати, об экспертной оценке. Мерить результативность игроков на фундаментальном научном поле снова предлагается только количественно: сравнением числа публикаций в зарубежных журналах.
— Сегодня из ФАНО идут рапорты наверх — в российской фундаментальной науке все улучшается, потому что число публикаций растет. И это еще одно свидетельство непонимания чиновниками специфики академической науки. Помнится, я еще будучи школьником старших классов понимал: ни отдельного ученого, ни институт, ни науку в целом нельзя характеризовать числом публикаций. Есть те, у кого мало публикаций, но это великие ученые, а есть те, у кого их сотни, — но они как ученые почти ничто. Типичный российский доктор наук к пенсии имеет 150 — 200 публикаций, а у Ландау их было всего примерно 90. У великого физика-теоретика Фейнмана вообще всего около полусотни работ за всю жизнь. Наука — предмет сложный, и характеризовать его сложно.
О причинах и перспективах
— Начинается письмо, однако, с верной посылки: уровень российской науки падает, все меньше в кулуарах конференций слышен русский язык…
— Свидетельствую: с русским там все в порядке, он даже стал практически вторым разговорным языком. Но это, увы, есть прямой результат реформ российской науки. Потому что говорят на нем представители не России, а российской научной диаспоры в западных странах.
Да, мы уже давно не являемся доминирующими фигурами на международных мероприятиях. В советское время выехать было очень сложно, но нас встречали с распростертыми объятиями. Теперь на международных форумах нас никто не ждет, мы играем даже не второстепенную, а третьестепенную роль. А причина проста: не попадают наши исследователи на международные конференции потому, что банально нет денег — ни у людей, ни у институтов. И не только на поездки. Более важно, что нет денег на исследования. Ничего более кошмарного нельзя себе представить. Из примерно полутора десятков центров нейтронных исследований, что были в СССР, сейчас остались три: в Дубне, в Гатчине да у нас под Екатеринбургом, и тот дышит на ладан. Все институты Академии в совокупности уже четверть века финансируются как один заштатный американский университет — этот факт хорошо известен. Почти 90% бюджета институтов РАН идет на зарплату. А как быть с установками, оборудованием, реактивами, с затратами на эксперименты, на экспедиции и т.д. и т.п. — работать-то на что?
Начальник управления ФАНО по координации и обеспечению деятельности организаций в сфере науки пишет, что в естественных науках самым опасным является свертывание экспериментальной деятельности, эксперименты имеют заказной прикладной характер. А почему они носят такой характер? Да просто денег нет на проведение экспериментов, нет оборудования: академический институт без финансирования находится в аховом состоянии. Естественно, люди делают то, что можно, а это далеко не всегда то, что нужно.
Неудивительно поэтому, что наука деградирует, что есть проблемы с привлечением молодежи, что в обществе занятие наукой считается непрестижным, а ученые — несчастными бедными людьми.
— При этом акцент в письме сделан на программах класса megascience, программы президиума РАН отнесены к «средней» науке, а программ отделений РАН может не остаться вовсе.
— Развитие экспериментов класса megascience (это крупные установки, международные исследовательские комплексы), конечно, важно, кто бы отрицал… Вот только российский опыт здесь печальный, ибо отсутствует то самое финансирование. В письме упоминается проект Курчатовского института, перехваченный у РАН: создание реактора ПИК в Петербургском институте ядерной физики (ПИЯФ). Строительство ПИК (этот аббревиатура от заглавных букв фамилий разработчиков Юрия Петрова и Кира Коноплева) было начато в 1975 году. В 1979 году я был на конференции в ПИЯФ и впервые услышал «теорему Петрова»: в каждый данный год до запуска реактора ПИК остается еще пять лет. Эта теорема работала тогда, работает и сейчас: по устойчивости прогноза это превосходит знаменитый закон Мура в микроэлектронике…
Дай Бог, конечно, чтобы реактор ПИК и другие установки megascience заработали. Но их создание требует огромных средств. И в условиях незначительного финансирования российской науки в целом тут есть нечто неправильное: деньги отвлекаются от нормальной науки, которая не требует таких больших расходов. Несколько экспериментов или таких установок не поднимут российскую науку, а ее надо поднимать на всех направлениях. Ничего этого не происходит.
Кстати, похожие постоянные разговоры в ФАНО, мол, за счет мегагрантов можно вернуть часть нашей диаспоры, — также не просто наивные надежды, а глубокое заблуждение. Вернуть можно, но лишь некоторых из тех, кто становятся там сейчас заслуженными пенсионерами. Это что, способ справиться с проблемами российской науки?
— Отсутствие денег предлагается компенсировать организационными решениями.
— На самую «блестящую» идею — создание аутсорсинговой компании, обслуживающей институты, — ответом может быть только хохот. Я работал в двух очень больших институтах и одном компактном (200 сотрудников), разница — небо и земля. Купить мышку, или картриджи для принтера, или бумагу — в большом институте займет недели (если не месяцы) прохождения бумажек с учетом правил бухгалтерии и отделов снабжения. В маленьком институте — минутное дело. Про аутсорсинговую компанию, снабжающую сразу несколько институтов, — даже страшно подумать. Товарищ Романовский этого не понимает. Он упирает на другое: сокращение административно-управленческого персонала, оптимизация состава институтов будут способствовать процессу реструктуризации.
— Про реструктуризацию сказано и написано уже немало (см., например, «Когда два плюс два меньше четырех», «Э-У» № 1 — 3 от 19.12.2016).
— Да, ученые критиковали ее нещадно и многократно. В ФАНО затеяли и проталкивают эту безумную программу, думают, что получат хороший результат. Не получат. Считал и считаю, что оптимальная численность для научно-исследовательского института — 200 — 300 человек, в этом случае нормально работают все: и научные сотрудники, и административно-управленческий персонал, и службы. Как только численность растет, все становится очень грустным.
Важно: в ФАНО почему-то игнорируют тот факт, что реструктуризация научных исследований при нормальном развитии науки шла во все времена. Институты и лаборатории открывались и закрывались. Как и научные направления. Это естественный эволюционный процесс, и административный раж тут не в помощь.
— Чего ждать?
— По прочтении этого письма пессимизм только возрастает. Возьмем пассаж: наука XXI века должна делаться в зданиях XXI, а не XX или XIX века… Большинство ученых изначально предупреждали: реформа затеяна, чтобы «избавить» Академию наук от «ненужной» ей собственности в центре Москвы и Санкт-Петербурга. Реформаторы до сих пор открещивались, а теперь Михаил Романовский прямо это подтверждает. Что сделают с историческими зданиями в центре столиц, все прекрасно понимают. А науку с Ленинского проспекта Москвы и со стрелки Васильевского острова Санкт-Петербурга вышлют куда подальше.
В ФАНО не понимают, что чисто административными методами ничего добиться не удастся. Исследователи ищут то, что считают нужным, и на этом пути иногда получают замечательные результаты. А когда сверху говорят: вы неправильно живете, а мы знаем как надо — на ум приходит строка Галича: «Бойтесь того, кто знает как надо».
То, что делается под флагом реформы науки, выглядит вредительством. Намеренным или от недомыслия — не столь важно. Термин этот имеет в нашей истории печальную репутацию, но его трудно отогнать: дело идет к деградации и даже к полной ликвидации фундаментальной науки в России. И этот путь не столь уж долог.