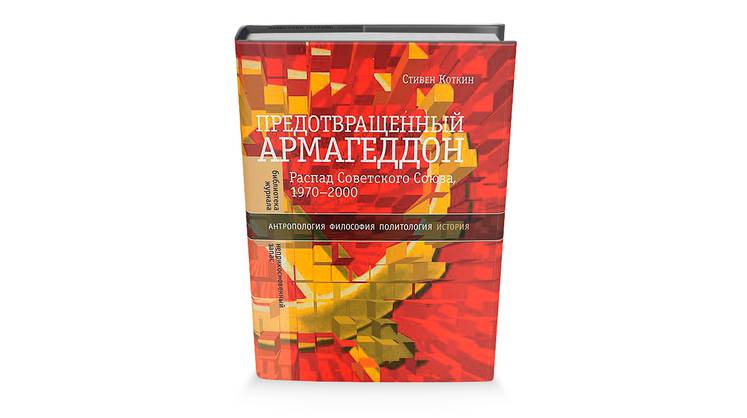Странное ощущение возникает, когда читаешь книгу об истории времени, которое ты пережил, в событиях которого ты сам принимал активное участие, и понимаешь, что описанное в книге не соответствует тому, что ты видел. Задумываешься о том, насколько исторические труды о временах, которые ты не застал, являются, видимо, помесью реальных фактов, чего-то придуманного за недостатком фактов, ошибок и предрассудков — собственных автора или заимствованных им из чужих исторических трудов. И возникает вопрос, насколько этим трудам, даже самым фундированным, можно доверять. Оказывается, что только с большой долей скепсиса.
Может быть, поэтому получилась не столько рецензия, сколько эмоциональная реакция на прочитанное.
Главная идея
Главная идея книги известного американского историка Советского Союза, автора большой биографии Сталина Стивена Коткина состоит в том, что распад страны был предопределен неэффективностью ее экономической и политической системы, но роль триггера распада советской системы и всей страны сыграла наивная преданность Горбачева и его команды идеалам «социализма с человеческим лицом» и попытка реформировать Союз на этой основе. По мысли автора, СССР в своем прежнем затхлом состоянии мог существовать еще довольно долго, а разрушила его именно попытка реформировать принципиально нереформируемую советскую политическую и экономическую систему, сохраняя преданность ее основам. Собственно, в этом нет открытия, в этом нас убеждают уже более тридцати лет наши доморощенные гуру.
Открытием для многих читателей явится наивная убежденность самого Коткина в верности Горбачева и его команды — Лигачева, Яковлева, Шеварднадзе, Рыжкова — этим идеалам в стиле шестидесятничества. Трудно судить об убеждениях самого Горбачева, хотя его удивительное спокойствие, даже какая-то отстраненность в ключевые моменты его правления, а особенно во время решающих событий после августовского путча и после Беловежских соглашений навевает подозрение в слабости его убеждений: человек с убеждениями должен быть готов их отстаивать, а не спокойно сообщить стране, которая доверилась ему, что ее больше не существует.
Причем речь идет не об использовании им силы, о потенциальных ужасах применения которой для всего человечества говорит Коткин, и это его вторая важнейшая мысль: слава богу, что во главе СССР стояли такие слабаки, которые не решились применить всю мощь страны для ее сохранения. И с этим можно согласиться: нам не хватало только всемирного ядерного Армагеддона или всесоюзной гражданской войны. Но дело не в этом, ведь Горбачев ни до путча 1991 года, который запустил процесс окончательного распада страны, ни после никогда и никак не пытался мобилизовать своих сторонников и вообще сторонников сохранения Союза, продемонстрировав, что он не был ни политиком, ни идеологом, а обычным советским чиновником с хорошими намерениями, понимающим политику как «дворцовые интриги», а не как действие масс. Именно так он и вел себя все время своего правления. Чем, кстати, отличался от переигравшего его в конце концов именно на этом поле массовой политики Ельцина.
Тем более трудно поверить в коммунистические, социалистические или просто «шестидесятнические» убеждения Александра Яковлева, который, безусловно, из команды реформаторов был самым марксистско-ленински образованным человеком, памятуя о его постоянных заверениях, правда уже постфактум, что он чуть ли не со времен ХХ съезда партии, если не раньше, думал, как разрушить систему, и о том, какую роль сыграли его выступления в разжигании сепаратистских настроений в Прибалтике.
Что касается марксистско-ленинских или даже социалистических убеждений остальных советских руководителей, пусть даже в шестидесятническом виде, то по этому поводу можно вспомнить шутку Брежнева. Когда помощники принесли ему на рассмотрение проект его первого большого доклада в должности генерального секретаря, который они напичкали цитатами из Маркса, он засмеялся и сказал: «Вряд ли кто-то поверит, что Леня Брежнев читал Маркса». Вряд ли кто-то поверит, что все эти вожди перестройки читали Маркса и Ленина больше, чем того требовала программа вузов, в которых они учились, чтобы относиться к ним как к правоверным коммунистам.
Хотя, как ни оценивай этих персонажей, приходится согласиться с замечанием Коткина, что им на смену пришли люди, лишенные даже их моральных достоинств. Но и в этой характеристике есть явный перехлест, присущий Коткину в его оценках и людей, и событий.
При этом заметно высокая оценка человеческих качеств вождей перестройки — особенно, кстати, Лигачева — входит в явное противоречие с уничижительной характеристикой, которую Коткин дает всему советскому чиновничеству, плоть от плоти которого они были. Коткин лихо замечает, что «если бы наказывался каждый проступок, почти все советское чиновничество пришлось бы расстрелять или посадить», и неоднократно повторяет эту мысль по ходу книги, заодно таким же образом характеризуя директорский корпус. Опыт автора этих строк говорит о том, что, хотя среди них было немало беззастенчивого жулья, большинство чиновников и директоров продолжали честно работать, и только их работа и даже преданность делу спасли страну от полного краха в годы распада и реформ.
В значительной мере эта легенда о чиновниках и директорах, из-за сопротивления которых реформам и лихоимству не удались реформы, была создана самими реформаторами для оправдания своей полной административно-управленческой беспомощности и провала непродуманных реформ. Кстати, один из видных реформаторов еще где-то в 1992 году по поводу жалоб на чиновничество заметил: «Они служилые люди и готовы ответственно работать, они просто никак не поймут, чего от них хотят».
Что касается директоров, то лишь благодаря усилиям многих их них заводы и НИИ еще довольно долго продолжали работать, а некоторые сохранились до нашего времени, пусть и в потрепанном состоянии. «Эксперт» неоднократно писал об этом (см., например, «Технократический катарсис» в № 10 за 2006 год).
Кстати, и сам Коткин с удивлением это отмечает: «Тысячи заводов советской эпохи, чья продукция часто не стоила затрат на нее, как-то умудрялись выживать». Оставим на совести автора оценку их продукции, но ему стоило бы задуматься, как и почему это у них получалось. Значит, что-то не так в его представлениях. Эти оценки ведь тоже из арсенала реформаторов, которые, когда их упрекали в развале промышленности, ссылались или на «красных директоров», которые им мешали, или на то, что «эти сталинские заводы никому были не нужны». А в итоге были уничтожены целые отрасли промышленности, причем в первую очередь именно высокотехнологические: гражданское авиастроение, электронное машиностроение, электроника, станкостроение и т. д. Но не только. Можно, например, вспомнить уничтожение меховой отрасли, которая в советское время была вторым по значимости источником валюты для страны.
Проблемы экономики
У одного из видных реформаторов было странное хобби: часто поминать «Ростсельмаш», чтобы сказать, если немного перефразировать его слова, что «“Ростсельмаш” должен быть разрушен», потому что он выпускает бесполезные комбайны. Слава богу, завод устоял еще под старым руководством, а когда на него пришла команда новых владельцев и менеджеров, возродился к новой жизни и производит уже новейшие комбайны, поставляя их не только в России, но и на экспорт.
И это очень характерный факт, который на примере одного предприятия демонстрирует ущербность представлений о принципиальной нереформируемости российской промышленности как части советской экономической системы, которые являются ключевой идеей Коткина. В истории вообще нет ничего предопределенного. Представление о предопределенности случившегося возникает у участников исторического процесса обычно задним числом, чаще всего в качестве оправдания своего поведения и своих ошибок. И Коткин зачем-то им подыгрывает.
Из представлений о нереформируемости советской политической и экономической системы Коткина делает совершенно необычный вывод о характере и судьбе российских реформ. Не случайно одна из глав книги называется «Иллюзия реформы…». Как замечает Коткин, «дело в том, что таких [либеральных] реформ [в России] никогда не было и не могло быть. То же самое можно сказать и о благих “альтернативах” этим реформам». Фактически он делает вывод о принципиальной невозможности реформ в России в то время, потому что «многое из того, что появилось под маской реформ, лишь скрывало настоящую каннибализацию прежней советской реальности».
Но реформы на самом деле проводились, причем по калькам пресловутого «Вашингтонского консенсуса», предусматривавшего вполне определенный набор мероприятий, которые должны были провести реформаторы, что они и сделали. И первое решение реформаторов — освобождение цен — лишило граждан накоплений, производителей товаров народного потребления — потребителей, а промышленные и сельскохозяйственные предприятия — оборотных средств, что и вызвало коллапс многих из них, а вовсе не их «отсталость». А последующее поддержание курса рубля на завышенном уровне, при котором все, что производила российская экономика, стало заведомо дороже импорта, окончательно их доконало. Что коренным образом отличалось от политики китайских экономических властей, изо всех сил поддерживавших заниженный курс юаня. И это к вопросу о том, могла ли России пойти по китайскому пути, что Коткин категорически отрицает. В этом точно могла бы, и результаты точно были бы другими.
Знакомый председатель колхоза из Адыгеи с удивлением спрашивал меня, как это может быть, что масло, производимое его колхозом, стоит дороже новозеландского? Так и может быть, если за экономические реформы берутся люди, знающие экономику по учебникам, описывающим идеальные схемы, и мало что понимающие в реальной экономике своей собственной страны. И никакого отношения к проблемам, о которых так живописует Коткин, пересказывая оправдания реформаторов, это не имеет.
При этом сам Коткин справедливо замечает, что «некоторые аналитики поспешили оправдать шоковую терапию, настаивая: она не сработала лишь из-за того, что непоследовательно проводилась в жизнь. Так и было. Но какой прок от экономической программы, которая может работать только в идеальных условиях, когда даже ее сторонники предупреждают о грозящих ее воплощению препятствиях?». Против этого не возразишь. Собственно, об этом мы написали выше. Но это противоречит уверениям Коткина о нереформируемости российской промышленности и экономики в целом. Если реформы скроены криво, то и результат кривой?
И о каких разумных экономических результатах реформ можно говорить, если Анатолий Чубайс, один из лидеров-реформаторов, как-то откровенно признался о целях уже другой части реформ — приватизации, краеугольного камня тог же «Вашингтонского консенсуса»: «Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Она решала совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, а уж тем более на Западе. Она решала главную задачу — остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили ее полностью». Решили грабительским образом, с чем согласен и Коткин. Но если это все так, то при чем тут советское прошлое, директора и чиновники? Если реформаторы ставили перед реформами не экономические задачи, то, повторим наш вывод, они и вся страна получили кривые экономические результаты.
Можно понять ошибки реформаторов, вызванные их некомпетентностью, идеологической ангажированностью и сложностью решавшихся ими задач, но трудно понять исследователя, который просто воспроизводит их некомпетентные и ангажированные оценки.
Мы коснулись только части проблем новейшей истории России, затронутых в книге, в которой достаточно подробно рассмотрены многие другие события, в частности история уже самого новейшего времени, связанная с президентством Владимира Путина, но нас они эмоционально затронули меньше, и мы оставляем возможность самостоятельно составить впечатление об этой части книги пытливому читателю.
Коткин С. Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза. 1970–2000. — М.: Новое литературное обозрение, 2018. — 240 с. Тираж 1000 экз.