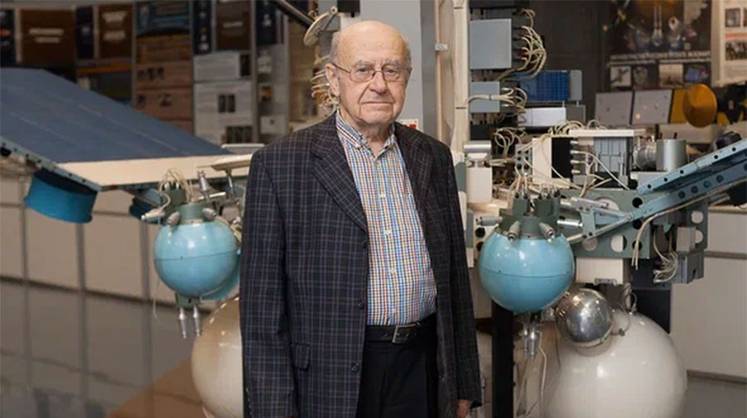Рождение в 1970 году идеи стыковки и совместной работы на орбите советского и американского космических кораблей сегодня кажется событием крайне необычным. Особенно потому, что инициатива исходила от американцев, за полгода до этого триумфально победивших СССР во втором — лунном — раунде космической гонки.
— Зачем США понадобилась совместная с Советами программа?
— Я думаю, что у руководства великих держав к этому моменту сформировалось четкое представление, что медийный, пропагандистский эффект достижений в космосе не только не уступает по силе и масштабу, но и, возможно, превосходит воздействие от размахивания ядерной дубинкой. А значит, этим эффектом нужно управлять и использовать в международных отношениях. Президент Никсон решил, что на тот момент политические и социальные дивиденды от инициативы сотрудничать в космосе с Советами перевешивали мотивы вступления в новый виток ракетно-ядерной гонки. Параллельно продвижению работы над программой «Союз» — «Аполлон» были заключены первые соглашения об ограничении стратегических вооружений.
Кроме того, категорически неверно считать СССР проигравшим по итогам первого десятилетия космической эры. Да, пилотируемую лунную гонку мы уступили американцам, зато далеко опередили США в части исследования Луны автоматами. Намного дальше мы продвинулись и в исследованиях Венеры.