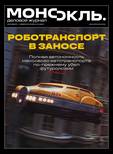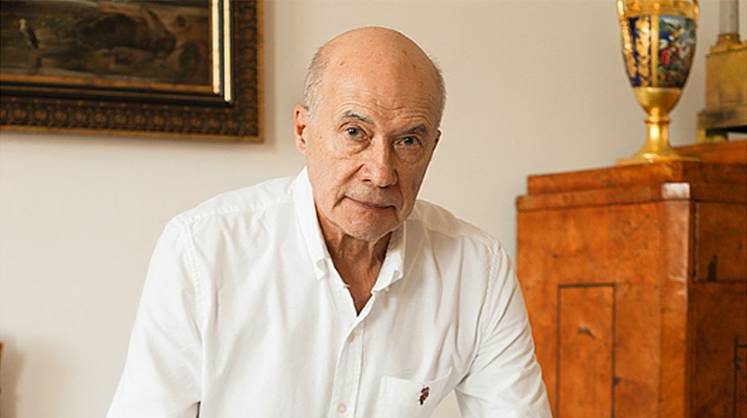Два триллиона рублей будет потрачено в этом году в России на субсидирование ипотеки.
В нашей стране кардинально упало качество независимой аналитики в области жилищной политики и градостроительства. Нет глубокого анализа происходящего, нет палитры мнений и подходов. Из-за этого решения властей или проекты застройщиков воспринимаются как единственное возможные, а текущая модель — как данность, которая не подлежит изменению. Но это не так: альтернативы есть. Более того, существующая ситуация с крайне высокими ценами на жилье и огромными затратами государства требует поиска новых подходов.
Андрей Владимирович Боков, с которым мы побеседовали, — невероятно опытный в градостроительстве и архитектуре человек. Он полтора десятка лет возглавлял столичный «Моспроект-4», потом восемь лет руководил Союзом архитекторов России. В беседе с ним мы решили «пробежаться» по актуальным темам градостроительства, архитектуры и жилищной политики. Почему сегодня строится не то, что нужно обществу? Какими могли быть контуры новой жилищной политики? Чем мастер-план отличается от генплана? Почему современная архитектура не нравится большинству людей?
Все определяет застройщик
— Государство вроде повернулось лицом к городам. Увеличились инвестиции в инфраструктуру, делаются мастер-планы, идет благоустройство. Насколько за последние несколько лет изменилась ситуация с городами?