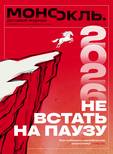Заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов в ходе Татарстанского нефтегазохимического форума — 2025 рассказал об оптимистичных ожиданиях ведомства в части отечественного оборудования, используемого компаниями отрасли. Минпромторг выделил около 2000 позиций нефтегазового оборудования, применяемого на разных этапах производства, из них 1400 признаны критическими для всех процессов. «Производство почти тысячи видов продукции уже освоено российскими предприятиями в качестве серийных образцов. К концу этого года мы планируем достичь 80-процентной доли отечественного оборудования на нефтегазовом рынке против 43 процентов, которые были десятью годами ранее», — заявил замглавы министерства.
По итогам прошлого года доля российской нефтегазовой техники составляла 70%, отмечают в министерстве. «А если дополнить существующие интегрированные производства еще и сборкой и обычным “шильдикостроением”, доля может быть и выше», — ехидничает Дмитрий Касаткин, управляющий партнер Kasatkin Consulting (бывшая команда Deloitte).
Большинство участников рынка оценивают долю отечественного оборудования в ТЭК гораздо скромнее. По данным Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), с 2011 года в модернизацию НПЗ и новые downstream нефтяные компании вложили более 5 трлн рублей, однако доля российского оборудования в проектах не превышала 30%.