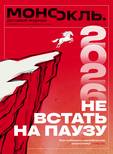Депутат Московской областной думы Анатолий Никитин заявил, что в правительстве РФ рассматривается возможность введения налога на труд роботов. Подобную инициативу объясняют тем, что автоматизация на производстве и в сфере услуг приводит к снижению числа людей, занятых в экономике. Как следствие, уменьшаются страховые взносы, ведь их платят живые работники, но не платят машины.
Анатолий Никитин идею поддерживает. По его мнению, это позволит обеспечить социальную защиту людей, чьи рабочие места заняли автоматы.
Казалось бы, разумное соображение. Но насколько уместно внедрение подобной инициативы в России сейчас, когда процесс роботизации только-только разворачивается? И как новый налог поможет достичь поставленной президентом перед страной цели — войти к 2030 году в топ-25 государств по уровню внедрения промышленных роботов?
Подсмотренная идея
Мысль обложить машины налогами не нова. Еще в 1940 году американский сенатор Джозеф О'Махони представил законопроект о налогообложении средств автоматизации. Принят он, однако, не был.
Снова об этом задумались в XXI веке. В 2017 году мэр Сан-Франциско Джейн Ким поручила рабочей группе изучить возможность введения налога на робототехнику, заявив, что в ее округе заметное неравенство в доходах вызвано именно машинами. С той же идеей выступил и лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин. В 2019 году мэр Нью-Йорка Билл де Блазио говорил о необходимости налога на роботов во время своей президентской кампании. Согласно его предложению, крупные корпорации следовало обязать в течение пяти лет платить подоходный налог с тех рабочих мест, которые были автоматизированы.