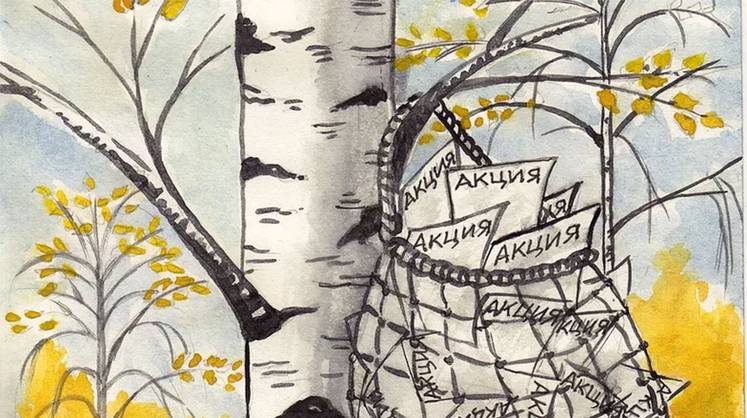Одной из причин октябрьского падения отечественного рынка акций, помимо плохих внешних новостей, могло стать обсуждение обмена замороженных активов. Речь идет об акциях иностранных компаний, купленных нашими инвесторами и оставшихся в европейских депозитариях, и о принадлежащих нерезидентам наших ценных бумагах и деньгах, которые заморожены внутри уже нашего периметра на счетах типа С.
Руководитель дирекции по работе с акциями УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин на конференции Smart-Lab в конце октября привел такие цифры: до санкций 70% free float рынка акций на Московской бирже приходилось на иностранцев. Поэтому неудивительно, что навес такого размера будет давить на рынок.
Новая попытка
Тема этого обмена всплывает с завидной регулярностью. На этот раз в СМИ появились сообщения о том, что ВТБ и БКС направили клиентам пояснительные материалы, описывающие процедуру возможного обмена активов. В БКС от комментариев предпочли воздержаться. «Что я могу раскрыть: команда людей, вовлеченная [в процесс разблокировки], у нас сравнима с командой людей, которая занималась запуском торговли в выходные дни. Мы очень много ресурсов в это вкладываем», — поделился на конференции Smart-Lab руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин.