
Трудно не согласиться с тем, что на политическом поле России пустовато, что «Ганди умер, и поговорить не с кем». Бытует мнение, будто это результат того, что авторитарная власть «вытоптала» все политическое поле. Видимо, это надо понимать так: лучшим людям не дают, что называется, высунуться. А «вытоптала» власть это самое поле, конечно, методами ужасного авторитаризма.
Не будем спорить о характеристиках существующего политического режима. Это бесполезно. Хотя ничего такого сверхавторитарного не видно. Никто не скажет, что у нас образцовая демократия, но назвать ужасно авторитарной страну, где издается и продается практически все, что можно себе представить, а в интернете присутствует и того больше, язык не поворачивается.
Попробуем разобраться с проблемой, призвав на помощь сравнительную политологию, которая занимается изучением политики путем сравнения и сопоставления однотипных политических явлений в различных политических системах. Главное — найти сопоставимый объект. И первое, что приходит на ум, — наша же страна на рубеже XIX–XX веков. Тем более что Россия — страна с циклической историей. Причем именно со столетним циклом.
Что представляла собой Россия на переломе тех веков? Абсолютную монархию, где точно было вытоптанное политическое поле. Вплоть до первой русской революции и выборов в Государственную думу политические партии были запрещены, а подавляющее большинство политических оппонентов режима находились либо в тюрьмах и ссылках, либо за границей. И никаких альтернативных средств информации, кроме газеты «Искра» и еще нескольких таких же изданий суммарным тиражом несколько тысяч экземпляров. Да и после 1905 года назвать Россию полноценно демократической невозможно. Деятельность партий сильно ограничена, многие из них продолжают действовать в подполье или под разными легальными прикрытиями, СМИ, хотя и в меньшей мере, все так же ограничены цензурой, значительная часть политических оппонентов режима пребывает за границей и по ссылкам и тюрьмам, а состав парламента регулируется специально для этого написанным и постоянно переписываемым избирательным законодательством. Эта аналогия тем более уместна, что, как известно, составители Конституции 1993 года в ее окончательной редакции ориентировались именно на пример начала века: император-президент, мало ограниченный парламентом, состав которого регулируется тем или иным административным образом.
Но что мы видим на политическом поле, которое возникло после революции 1905 года? Блеск выдающихся имен от правого до левого флангов. Милюков, Герценштейн, Струве, Туган-Барановский, Чернов, Кондратьев, Богданов, Плеханов, Ленин, Троцкий. Причем это не просто профессиональные политики, это выдающиеся исследователи России. Милюков — историк. Герценштейн, Туган-Барановский, Кондратьев — экономисты. Струве — экономист и философ, Чернов и Троцкий, по-современному говоря, политологи и политические философы. Плеханов — автор работ по философии, социологии и истории общественной мысли России. Ленин — экономист, политический философ, политолог. Их труды широко известны читающей публике, причем не только в России.
Известно, что в библиотеке Сергея Юльевича Витте была работа Ленина «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития» 1895 года, хотя тираж ее был уничтожен цензурой. А работы Троцкого по проблемам государства цитировал Макс Вебер. Были выдающиеся имена и в правительственном лагере, например тот же Витте и Менделеев. Оба блестящие экономисты.
Удивительная разница между блеском имен начала ХХ века и пустыней начала ХХI характерна не только для политики, но и для искусства и общественных наук, то есть для всего гуманитарного поля. Не Павленского же считать современным Малевичем. Конечно, и сейчас есть крупные художники, писатели, философы, экономисты, но кого из них можно сравнить по степени общественного влияния с Толстым или Горьким? И проблема не только в отсутствии имен, но и в отсутствии у этих имен общественного накала. Проблема, если так можно выразиться, в выгорании воли и характера.
Автор этих заметок не социолог и не занимался детальными исследованиями российского общества начала XXI века, но личный опыт общения с самыми разными людьми в ходе общественной и журналистской деятельности, которой скоро уже тридцать лет, позволяет сделать некоторые заключения. Проблема в том, что социальный шок, пережитый нашим обществом в 1990-е годы, оказал на него настолько травмирующее воздействие, что в значительной мере лишил его того пассионарного заряда, который был характерен для времен перестройки. Если считать личные беседы неким подобием углубленных интервью, то я запомнил слова одного инженера, сказанные в начале 2000-х: «Чего вы хотите от нас, мы просто раздавлены произошедшим». И с подобными признаниями приходилось сталкиваться не раз и не два.
Есть такая психологическая проблема — профессиональное выгорание. В нашем случае она охватила все общество. Это явление характерно для всех революций. Так было и после революции 1917 года. Но тогда оно было преодолено тем, что власть поставила перед обществом многообещающие цели. Над ними можно смеяться и отвергать как иллюзорные, но они были. В наше время никаких механизмов преодоления общественного выгорания предложено не было.
Можно сказать, что общественно-гуманитарная пустота, которую мы все ощущаем, — это не столько результат воздействия политической системы, сколько состояние выгоревших воли и характера.

От политики к экономике
В двадцатые годы ХХ века российскому-советскому обществу была предложена модель общественного успеха, основанного на совместных общественных усилиях. Причем в первую очередь в экономике. В наше время эта модель не работает. И в России нет политических сил, которые предлагали бы ее применительно к современному обществу. Лайт-сталинизм в версии КПРФ вряд ли увлечет современного человека. Хотя отметим, что крупные общенациональные проекты все так же требуют общественных усилий. Наши падающие ракеты — сигнал профессионального выгорания целых отраслей экономики, именно тех, которые нуждаются в общественных усилиях. Налицо угасание старых кадров, и молодежи от этих угасших людей трудно научиться тому энтузиазму, которым были движимы творцы советской техники и которым отличается, скажем тот же Илон Маск, при всем к нему скептическом отношении. Но, конечно, не всегда.
Казалось бы, в 1990-е годы обществу была предложена модель индивидуального успеха, которая поначалу вдохновила многих. Но для ее реализации не были созданы соответствующие экономические условия.
Модель полноценного индивидуального успеха нуждается в капитализме со всей присущей ему инфраструктурой. Главный элемент этой инфраструктуры — банки, способные предоставлять дешевый кредит. Лишенные дешевого кредита, наши пионеры капитализма уперлись в стенку, которую они в подавляющем большинстве так и не смогли преодолеть. Мы говорим о настоящих пионерах капитализма — о тех, кто развивает реальное производство. Проведенные в этом году очередные конкурсы «ТехУспех» и «Национальные чемпионы», как и всегда, выявили компании, безусловно выдающиеся по своим техническим достижениям, и опять показали, что все их победители и претенденты за редким исключением не пользуются банковскими кредитами, а развиваются на собственные средства. Со всеми присущими этому способу развития ограничениями. Так развивались протокапиталисты-ремесленники в Средние века — времена экономического застоя.
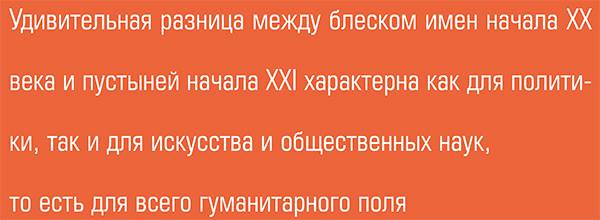
Идеи реформаторов 1990-х оказалось нереализованными, и по-другому быть не могло. Они сами не справились с проблемами, которые в значительной мере сами и породили. Моментально отпущенные цены не только лишили граждан накоплений. Они лишили промышленность оборотных средств и дешевых кредитов, разожгли инфляцию, которую только-только удалось пригасить.
Единственный социальный слой, преодолевший выгорание, свойственное остальному обществу, — предприниматели, развивавшие высокотехнологические производства, — оказался запертым в средневековой клетке. А за это время коммунистический Китай вырастил десятки глобальных корпораций, многие из которых начали свое развитие позже наших национальных чемпионов и с более низкого научно-технического уровня.
Мы уже писали, что капитализм — это не просто рыночная экономика, а дешевый кредит и промышленность. Позволим себе автоцитирование (что делать, если годами в нашей экономической жизни мало что меняется? Человеку, который пишет о нашей экономической политике, тоже трудно не повторяться): «…Основная характеристика капитализма, отличающая его от других общественно-политических формаций (или, если на другом языке, цивилизаций) — расширенное воспроизводство всего, от товаров до общественных отношений. Как писал Вернер Зомбарт, “капитал умирает, если он не реализуется, то есть если он не воспроизводит себя с некоторою прибылью”. А это возможно, только если это воспроизводство поддерживается главной смазкой капиталистического развития — деньгами, необходимое количество которых черпается из кредита. Вот почему, по словам певца капитализма и пророка его гибели Карла Маркса, “кредитная система, с одной стороны, является имманентной формой капиталистического способа производства, с другой стороны — движущей силой его развития в высшую и последнюю из возможных для него форм”».
Статья, которую я позволил себе процитировать, вышла в 2015 году. Мы назвали ее «Нас ждет великая эпоха» — в надежде, что России наконец-то удастся создать реально работающую финансово-кредитную систему мирового уровня, обеспечивающую промышленность доступными кредитными ресурсами, воссоздать базовые отрасли промышленности, создать новые отрасли XXI века. Надежды не оправдались.
Да, в России продолжают существовать осколки былого советского величия, сконцентрированные в различных госкорпорациях, которые в чем-то, как показывают события в Сирии, даже успешны. Но эти успехи основаны на государственной накачке, а не на конкуренции и на коммерческом кредитовании. А там, где требуются серьезные конкурентные усилия, госкорпорации не справились.
При этом экономическая политика России осталась все в том же русле двадцатипятилетней борьбы с инфляцией. Почему? Может быть, потому, что люди, которые определяли и определяют экономическую политику в России, достаточно умные и образованные, тоже страдают выгоранием воли и характера. Характерное состояние таких людей — страх развития. Потому что развитие грозит нестабильностью. А после хаоса 1990-х даже эти люди, выходцы из тех лет, боятся их возвращения. Неудивительно, что наша экономическая политика превратилась в некое подобие культа вуду (культа, лишенного этического содержания, что порождает чувство беспомощности у его адептов), только наши последователи этого культа поклоняются «таргетированию инфляции» и боятся любого упоминания слова «рост».
Конечно, инфляция — это плохо, но борьба с ней методом остановки развития еще хуже. Тем более что, во-первых, так и не прояснены источники российской инфляции. Когда представители Столыпинского клуба предложили увеличить Фонд развития промышленности, единственный источник дешевых кредитов для предприятий, им было отказано именно под предлогом опасности роста инфляции. Но в последнее время Центробанк вливает сотни миллиардов рублей в проблемные банки, и мы не видим роста инфляции. Тогда в чем же проблема? Похоже, ее так и не выявили. А, во-вторых, в несбалансированной экономике, каковой является российская, любое поощрение экономического роста, безусловно, будет в той или иной форме приводить к росту инфляции. Поэтому достигнутое в этом году рекордное сокращение инфляции вряд ли продержится долго, если правительство все же решится перейти к политике роста.
Отсутствие адекватной капитализму кредитной и, шире, финансовой системы — важный, но, увы, не единственный изъян современной российской экономической реальности. Не менее важные — отсутствие даже прообраза координирующей хотя бы крупные отрасли системы индикативного планирования, отсутствие полноценной промышленной политики, полноценной научно-технической политики, допуск иностранных сборочных производств без адекватных обременений по локализации и трансферту технологий. Для всех быстрорастущих стран характерна политика дешевого кредита, активная промышленная и научно-техническая политика. Например, в Германии на индустриальные компании сейчас приходится около 25% валового внутреннего продукта. В прошлом такая забота о промышленности была поводом для насмешек со стороны других стран, которые стремились к созданию постиндустриального общества. Предполагалось, что глобализация и растущая конкуренция в странах с дешевой рабочей силой не позволят поддерживать такую высокую долю промышленности в ВВП в стране с высоким уровнем заработной платы. Эти надежды оказались призрачными. Многие страны, расставшись с промышленностью, не приобрели ничего, кроме массовой безработицы и деморализации населения. Последствия массовой деиндустриализации, осуществленной под влиянием тех же идей, ощущаем и мы в России.
А Германия теперь, скорее, вызывает своей промышленной политикой если не восхищение, то зависть и уважение, так как именно развитое промышленное производство позволило ей сохранить высокую занятость, развить науку, связанную с промышленностью, и одновременно значительно увеличить профицит торгового баланса.
Все страны, вставшие на путь промышленного развития, теперь пользуются порожденными им благами, а мы все обсуждаем гипотетические опасности. Жаль.





