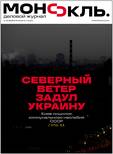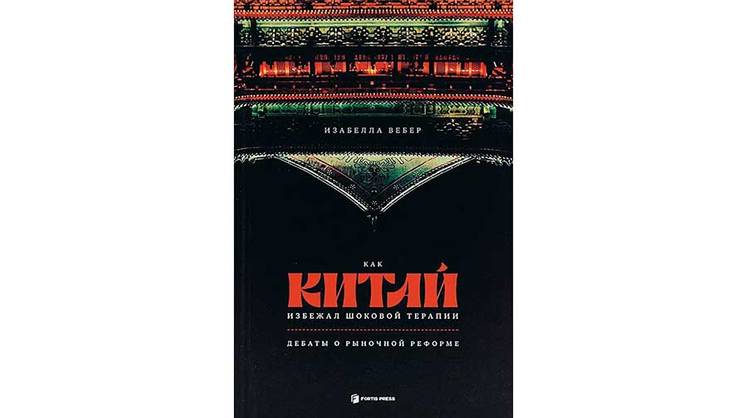Эта книга, написанная немецким экономистом Изабеллой Вебер, посвящена истории экономических реформ в Китае, но начинается она со сравнения реформ в Китае и в России, и эта тема проходит через всю книгу: автор анализирует отличия этих реформ, чтобы объяснить, почему Китаю они удались значительно лучше, чем России.
Ответ Вебер дает уже во «Введении»: «Контраст между подъемом Китая и экономическим крахом России иллюстрирует, что было поставлено на карту в дебатах о рыночной реформе в Китае. Шоковая терапия — главный неолиберальный рецепт — была применена в России, другом бывшем гиганте государственного социализма». «И именно это привело Россию к экономическому краху», что признавал, как напоминает Вебер, и Джозеф Стиглиц — лауреат Нобелевской премии и главный экономист Всемирного банка в 1997-2000 годах (то есть в разгар экономических реформ в России и в Китае), который указал на «причинно-следственную связь между политикой России и ее плохими показателями».
Ведь «после того как Россия и Китай применили различные подходы перехода к рынку, в мировой экономике они поменялись местами. Доля России в мировом ВВП сократилась почти вдвое — с 3,7% в 1990 году до около 2% в 2017 году, а доля Китая выросла почти в шесть раз — с 2,2% до примерно одной восьмой мирового производства. Россия пережила глубокую деиндустриализацию, тогда как Китай стал пресловутой мастерской мирового капитализма. Средний реальный доход 99% населения России в 2015 году был ниже, чем в 1991-м, тогда как в Китае, несмотря на быстро растущее неравенство, за тот же период этот показатель увеличился более чем в четыре раза, в 2013 году превысив российские показатели. В результате шоковой терапии в России смертность выросла до таких показателей, которых не наблюдалось ни в одной другой промышленно развитой стране в мирное время».