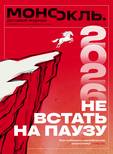Президент США Дональд Трамп пытается взять штурмом Федеральную резервную систему. По крайней мере, попытка сместить Лизу Кук с поста члена правления ФРС (президент не вправе увольнять членов правления, но может отстранять «по серьезным причинам») и назначение своего человека, экономического советника Белого дома Стивена Мирана на должность другого управляющего похожа именно на это. Досталось и председателю Джерому Пауэллу, которого президент США назвал «упрямым мулом».
Частная по форме и независимая по духу структура ФРС не сдается: Лиза Кук подала на Трампа в суд и отказалась уходить со своего поста. За этой битвой следят не только американцы, но и весь мир: в финансовом плане Штаты до сих пор задают моду, и если там ФРС де-факто потеряет независимость, то подчинение остальных центробанков правительствам — дело времени.
Но, конечно, дело не в полномочиях и аппаратных войнах. Трамп со свойственным ему шумом стремится к достижению простой цели — снизить ставку ФРС, поскольку сейчас обслуживание госдолга обходится американскому правительству слишком дорого. Впрочем, долговая ноша постепенно становится главным вопросом для многих стран, а сбросить или серьезно уменьшить ее уже невозможно.
Репортаж из долговой ямы
Мировой госдолг на конец 2024 года превысил 102 трлн долларов. Цифра серьезная, особенно если вспомнить, что мировой ВВП за прошлый год, по данным Всемирного банка, составил примерно 111 трлн.