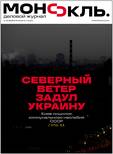Политические ориентиры Африки быстро меняются. Континент убежден, что перерос период становления и теперь вполне способен определять собственное будущее «без советчиков». При этом страны региона не спешат расставаться со своей «бунтарской» репутацией: Африку с завидной регулярностью сотрясают военные перевороты. На счету иных держав уже около десятка «насильственных трансформаций», причем примерно пятая часть переворотов случилась в последнее десятилетие.
Обстановка на континенте складывается явно не в пользу Старого Света. Те, кто еще вчера имел почти безграничное влияние, сегодня оказались не у дел и пытаются сохранить остатки военного присутствия. Впрочем, далеко не все европейцы покинули Африку. А на смену тем странам, что ушли, уже спешат новые «перспективные партнеры».
Франция: гонимый партнер
Французское присутствие в Африке пострадало больше всего. На волне «антиколониальных переворотов» Париж за пять-десять лет фактически потерял военно-политический контроль над континентом — хотя еще недавно «на французских штыках» держалась добрая половина местных режимов.
Первой ласточкой стала Центральноафриканская Республика (ЦАР), ее территорию французский экспедиционный корпус покинул в 2016 году. Правда, сделал это не под давлением, а в связи с истечением мандата миротворческой миссии. Но позже данное «суверенное решение» обернулось для Елисейского дворца полной потерей контроля над ситуацией и, как следствие, вытеснением французских интересов из ЦАР к началу 2020-х годов. Отыграть назад Парижу так и не удалось — хотя правительство Эммануэля Макрона на первых порах и сулило Банги щедрую поддержку и «особые привилегии» при возобновлении контактов.