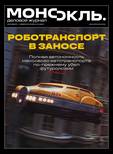Как только из-за океана донеслась весть о состоявшемся-таки разговоре лидеров России и США, затем в Кремле кивнули: лидеры двух стран и правда побеседовали, причем полтора часа, — а следом начали появляться детали, проясняющие характер разговора, стало ясно, что разрядке все же быть. Президенты пригласили друг друга в гости и договорились, что поручат своим командам начать готовить переговоры «немедленно».
Часть наблюдателей и участников украинского конфликта впала в панику, припоминая к месту десятилетний юбилей вторых Минских соглашений, которые конфликт не завершили, а лишь отсрочили, позволив противнику накопить силы. Примеров окончания войн, выигранных на поле боя, но проигранных политически, немало. В нашей истории в том числе: взять хотя бы окончание Первой мировой: последствия для России мы помним.
Но и открывать шампанское тем, кто ратовал за скорейшее примирение без оглядки на последствия, тоже пока не стоит, даже если Зеленский вновь надел скорбное лицо, а европейские официалы включили режим досады. Дипломатический и медийный церемониал, который мы наблюдаем в официальных сообщениях, обязывает к игре тональностей и формулировок, но не позволяет понять содержание.
Собственно, антураж переговоров вовсе не означает их непосредственного старта, а сам диалог, если вспомнить не столь уж давнюю историю, не особо-то мешал непосредственно боевым действиям и мог длиться годами.