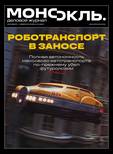Еще в 2021 году директор Научного центра неврологии, вице-президент РАН, академик, профессор Михаил Пирадов заявил, что уровень IQ людей, родившихся в 1930‒1980-е годы, на 20% выше, чем у тех, кто родился позже. Виной тому развитие цифровых технологий. Конечно, важно учитывать, что сравнивать уровень интеллекта современных людей и прошлых поколений сложно. Во-первых, показатель IQ может не отражать реальных знаний человека, а во-вторых, у ученых нет достоверных данных по коэффициенту интеллекта людей на протяжении столетий. Кроме того, на IQ одного человека влияет множество факторов.
Тем не менее трудно не заметить тенденцию: все больше исследователей поднимают вопрос цифровой деменции. Так, в декабре 2024 года эксперты Международной программы по оценке компетенций взрослого населения (Programme for the International Assessment of Adult, PIAAC) пришли к выводу, что уровень грамотности в Европе снижается и необходимо ввести постоянное обучение для взрослых.
По оценке PIAAC, за последнее десятилетие читательская грамотность заметно снизилась в 11 странах, наибольшее падение этого показателя отмечается в Польше (−31 балл по сравнению с аналогичным исследованием 2011 года), Литве (−28), Южной Корее (−23) и Новой Зеландии (−21 балл), а математическая грамотность ухудшилась в семи странах, особенно явно опять-таки в Литве (−22 балла) и Польше (−21 балл).