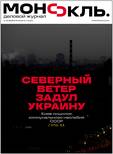— Главным вопросом — можно ли говорить о начале рецессии в России — мы подведем итог нашей беседе. Начать же предлагаю с промышленного производства. Из последних данных следует, что оно не просто стагнирует, а уже начало снижаться.
— В последние месяцы индекс промпроизводства у нас очень сильно просел. По данным Росстата, в декабре 2024 года был рост на 8,2 процента к соответствующему периоду 2023-го, в январе этого года рост на 2,2 процента, в феврале на 0,2 процента, в марте на 0,8 процента. Это означает, что по тренду (в сопоставимых ценах с сезонной коррекцией. — «Монокль») мы в первом квартале относительно четвертого довольно существенно просели.
В декабре 2024 года был очень большой скачок, связанный с тем, что в последние годы на декабрь приходится значительная, причем увеличивающаяся, часть промышленного производства. Поэтому в последующие месяцы тренд показывает снижение. Из-за этого в целом ситуация сейчас не очень определенная: мы видим провал в январе, потом очень небольшой отскок, но уже до значительно меньшего уровня, чем в декабре. Такая неустойчивая динамика связана с секторами, где преобладают производства оборонно-промышленного комплекса.
Если же смотреть на сектора с чисто гражданской продукцией, то там тенденцию видно гораздо лучше: скачков там нет, и четко видно, что от стагнации мы перешли к снижению. Причем в состоянии стагнации мы пребывали примерно с середины 2023 года, а сейчас начали ощутимо снижаться. В марте мы достигли минимального с начала 2023 года значения. Уже можно констатировать, что по крайней мере по гражданской продукции первый квартал 2025 года — это первый квартал ощутимого снижения выпуска, если смотреть с устранением сезонности.