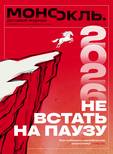Почти все, что окружает современного человека, невозможно без редких и редкоземельных металлов (РЗМ). «Даже на денежных купюрах есть светящиеся полоски, сделанные из РЗМ. Предприятия, которые так или иначе перерабатывают и потребляют редкоземельные металлы, исчисляются сотнями. А уж предметы, для изготовления которых нужны редкоземы, можно перечислять неделю» — так объяснил неутихающий ажиотаж вокруг отрасли председатель Ассоциации РМ и РЗМ, гендиректор Соликамского магниевого завода (СМЗ) Руслан Димухамедов, выступая на тематической конференции, организованной 25 марта группой Creon.
При этом основной объем потребления РЗМ в мире — более 35% — приходится на производство редкоземельных магнитов, из которых потом, по определению Димухамедова, «делают все, что вращается, крутится, передвигается». По данным исследовательской группы «Инфомайн», Китай в 2024 году произвел 250 тыс. тонн магнитов системы неодим-железо-бор (NdFeB), обеспечив более 80% мирового потребления, — сейчас весь мир зависит от экспортных поставок этих компонентов из Поднебесной. Но если в США уже приступили к выпуску собственных неодимовых магнитов, то в России о необходимости локального производства говорят с 2014 года, однако завода до сих пор не существует даже в виде проекта.
Прямой импорт китайских редкоземельных магнитов в РФ в последние годы стабилизировался на уровне 700–1200 тонн. «Понятно, что в страну поступает существенно больше магнитов в составе электродвигателей и другой электротехники, но подсчитать их количество достаточно сложно», — сообщил на конференции Creon руководитель «Инфомайна» Игорь Петров.