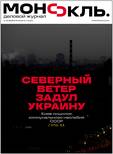Образ Абхазии в российском медиапространстве в последний год резко ухудшился. Будем откровенны: это государство после долгих лет теплой дружбы теперь нередко воспринимается «нахлебником», который лишь тянет деньги из российского бюджета, не желая пускать к себе инвесторов, бороться с коррупцией и развивать цивилизованный туризм. Появилась и новая страшилка: мол, абхазы готовы уйти в сторону Турции, если Москва окажется «несговорчивой». Основания для негатива у российской стороны есть.
На другой стороне, правда, это вызывает искреннее недоумение. В Абхазии почти невозможно найти политика или местного жителя, который не признавался бы в любви к России. В стране стоят российские военные базы, а в зоне СВО воюет интернациональный батальон «Пятнашка», основанный и во многом укомплектованный абхазами. А турецкие интересы в республике отметают принципиально.
После 2022 года Абхазия внезапно для себя оказалась на переднем краю «кавказского фронта», еще не горячего, но уже прогревающегося, на стыке отношений России, Турции и закавказских республик, то и дело принимающих у себя учения НАТО и США. Это пограничное состояние местные жители пока не ощущают и по-прежнему полны решимости построить успешное национальное государство в условиях социальной и инфраструктурной беды, катастрофической демографии и перманентных политических кризисов. Россия воспринимается единственным гарантом суверенитета, но и сама должна уважать границы абхазской независимости, уверены в Сухуме.