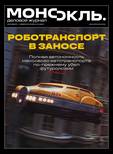Эффективный институт развития — Фонд развития промышленности (ФРП) — за последнее десятилетие профинансировал почти две тысячи проектов предприятий, а его капитализация выросла до 400 млрд рублей. Старт был дан почти ровно десять лет назад, тогда правительство выделило фонду 20 млрд рублей. При том что инвестиционные проекты, которые кредитует фонд, длинные — на пять, а то и семь лет, доля проблемных активов составляет менее 1,2%. Председатель экспертного совета ФРП, заместитель председателя «Деловой России», заместитель председателя общественного совета Минпромторга РФ Антон Данилов-Данильян говорит, что все дело в правильной организации принятия решений на всех этапах, от поступления заявки до погашения последнего рубля и финального отчета. И если работа организована таким образом, эффективно работать сможет любая государственная контора.
Поскольку ФРП находится в эпицентре процесса импортозамещения и создания новых производств в российской промышленности, с Антоном Викторовичем мы поговорили не только о том, как работает фонд, и о его перспективах, но и об импортозамещении и иностранных производителях, а также об инвестиционном процессе.